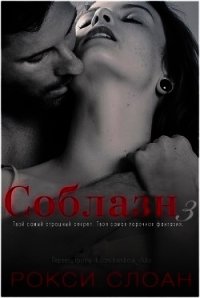Соблазн - Бодрийяр Жан (лучшие бесплатные книги .TXT) 📗
В этом смысле обольститель тоже может быть извращением. Потому что и он совращает соблазн от его тайного правила и обращает в заранее скоординированную операцию. Он относится к обольщению так же, как шулер — к игре. Если игра нацелена на выигрыш, тогда шулер — единственный настоящий игрок. Если б у обольщения была какая-либо цель, тогда обольститель являл бы собой его идеальную фигуру. Но как раз цели-то ни игра, ни обольщение не имеют, и можно побиться об заклад, что не что иное определяет поведение шулера и заставляет его унизиться до циничной стратегии выигрыша любой ценой, как ненависть к игре, отказ от присущего игре соблазна — и точно так же можно побиться об заклад, что поведение обольстителя определяется его страхом перед соблазном, страхом поддаться соблазну и встретиться с грозящим неизвестностью вызовом своей собственной истине: это и втягивает его в сексуальную конкисту, увлекая затем к новым бесчисленным победам, в которых он сможет фетишизировать свою стратегию.
Извращенец всегда увязает в маниакальной вселенной господства и закона. Господство фетишизированного правила, абсолютная ритуальная очерченность замкнутого пространства: здесь ничто больше не играет. Ничто не шевелится. Все мертво, и лишь смерть свою только и можно еще разыграть. Фетишизм есть соблазн мертвого, в том числе омертвелого правила перверсии.
Извращение — отмороженный вызов, обольщение — живой. Соблазн подвижен и мимолетен, перверсия монотонна и нескончаема. Извращение предполагает театральность и «тайный» сговор, обольщение — настоящую тайну и обратимость.
Системы, преследуемые своей систематичностью, завораживают: они ловят смерть как энергию гипнотизма. Так, коллекционерская страсть пытается оцепить и заморозить соблазн, трансформировать его в энергию смерти. Тогда-то в их работе и происходит перебой, который внезапно оказывается соблазнительным. Террор разбивается иронией. Или соблазн подстерегает системы в точке их инерционного сбоя, где они останавливаются, где нет больше никакой запредельности, никакого возможного представления — в точке невозвращения, где траектории замедляются, а объект абсорбируется своей собственной силой сопротивления и своей собственной плотностью. Что происходит в окрестностях этой инерционной точки? Объект здесь искажается подобно солнцу, преломленному в дифферентных слоях у горизонта, расплющивается под собственной массой и перестает подчиняться собственным законам. О подобных инерционных процессах мы ничего не знаем, нам лишь известно, что подстерегает их на краю этой черной дыры: точка невозвращения внезапно становится точкой тотальной обратимости, катастрофы, в которой дуга смерти разрешается в новый эффект соблазна.
III. Политическая судьба соблазна
Страсть правила
Игрок не должен быть больше самой игры.
Именно об этом говорится в "Дневнике обольстителя": в соблазне нет никакого господствующего субъекта, который направлял бы стратегию обольщения. Более того, развертываясь при полном сознании протагонистами используемых в ней средств, стратегия эта подчиняется превосходящему ее правилу игры. Соблазн, ритуальная драма по ту сторону закона, есть разом игра и судьба. Без нарушений правила — ибо связывает их именно правило — участники драмы увлекаются к своему неизбежному концу, и основополагающее обязательство здесь таково: игра должна продолжаться во что бы то ни стало, пусть даже ценой смерти. Игроков связывает с правилом, которое их связывает, род страсти, без которой никакая игра не была бы возможна.
Обычно наша жизнь не оставляет строя Закона, включая сюда и фантазм его упразднения. Запредельность закона видится нам лишь в трансгрессии или снятии запрета, поскольку схема Закона и запрета начальствует и над обратной схемой трансгрессии и освобождения. Но закону противостоит не беззаконие, а Правило.
Правило играет на имманентной взаимосвязи произвольных знаков — Закон опирается на трансцендентную взаимосвязь необходимых знаков. Правило есть циклическая возобновляемость набора условных процедур, Закон — инстанция, основанная на необратимости и непрерывности. Первое принадлежит к строю обязательства, второй — к строю принуждения и запрета. Коль скоро Закон проводит некую разграничительную черту, его трансгрессия возможна и необходима. И напротив, нет никакого смысла «преступать» какое-либо правило игры — в рекуррентной возобновляемое™ цикла нет никакой черты, которую необходимо и возможно было бы пересечь (из игры выбывают, одно очко — и все кончено). Претендуя на то, чтобы быть дискурсивным знаком легальной инстанции, потаенной истины, Закон (социального запрета, кастрации, означающего) повсюду устанавливает запрет, вытеснение, а значит, и разграничение между дискурсом явным и скрытым. Правило, будучи условным, произвольным и лишенным какой-либо тайной истины, не знает ни вытеснения, ни разграничения между явным и скрытым: оно попросту не имеет смысла, оно никуда не подводит — тогда как Закон обладает совершенно определенной финальностью. Бесконечная обратимая цикличность Правила противостоит целенаправленной линейности Закона.
Статус знаков в Законе отличается от их статуса в Правиле. Закон относится к строю представления, а значит, подлежит истолкованию и расшифровке. Он относится к строю постановления или высказывания, к которым субъект небезразличен. Он текст, подпадающий власти смысла и референции. У Правила нет субъекта, и модальность его выражения мало что значит; его не расшифровывают, и удовольствие от смысла здесь отсутствует — имеет значение лишь соблюдение Правила и умопомрачительность его соблюдения. Это отличает также ритуальную страсть, интенсивность игры от наслаждения, связанного с повиновением Закону — или с его трансгрессией.
Чтобы ухватить интенсивность ритуальной формы, нам, несомненно, следует отказаться от мысли, что все счастье наше — от природы, а всякое наслаждение — от исполнения желания. Игра, игровая сфера вообще раскрывают нам страсть правила, умопомрачительность правила, силу, идущую не от желания, а от церемониала.
Не переносимся ли мы в игровом исступлении в ситуацию сродни сновидению, в которой мы свободны от пут реальности и вольны оставить игру в любой момент? Такое впечатление ложно: игра подчиняется в отличие от сновидения определенным правилам, и нельзя просто так бросить игру. Порождаемое игрой обязательство — того же порядка, что и обязательство вызова. Бросать игру «неспортивно», и эта невозможность отрицания игры изнутри, составляющая ее очарование и выделяющая ее из строя реального, порождает в то же время своего рода символический пакт, требование безоговорочного соблюдения правил и обязательство дойти в игре до конца, как обязуются идти до конца, бросая вызов.
Учреждаемый игрою строй, будучи условным, несоизмерим с необходимым строем реального мира: его нельзя назвать ни этическим, ни психологическим, а его принятие (наше согласие с правилом) ничего общего не имеет ни с покорностью, ни с принуждением. Стало быть, попросту не существует никакой свободы игры в нашем нравственном и индивидуальном понимании «свободы». Игра — не свобода. Она не подчиняется диалектике свободной воли — гипотетической диалектике сферы реального и закона. Вступить в игру означает вступить в ритуальную систему обязательства, и ее интенсивность обусловлена именно этой посвятительной формой, а вовсе не каким-то эффектом свободы, как нам нравится предполагать по причине известного косоглазия нашей идеологии, которая всюду выискивает один только «естественный» источник счастья и наслаждения.
Единственный принцип игры (хотя он никогда не выставляется универсальным) состоит в том, что выбор правила освобождает вас в игре от закона.
Не имея ни психологического, ни метафизического основания, правило лишено также фундамента верования. В правило нельзя верить или не верить — правило соблюдают. В игре пропадает неопределенная оболочка верования, окутывающая все реальное, улетучивается это неизменное требование вероятия — отсюда аморальность игры: мы действуем, не веря в то, что делаем, не опосредуя своим верованием завораживающий блеск чисто условных знаков и лишенного каких-либо оснований правила.