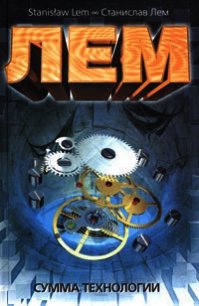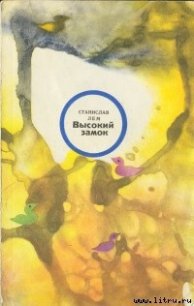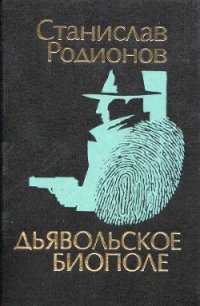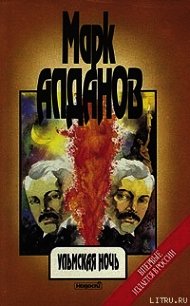Философия случая - Лем Станислав (лучшие книги без регистрации txt) 📗
В приведенных примерах «уничтожение» информации так или иначе совершается в плоскости наших представлений о реальном мире. Однако литературное произведение с равным успехом может направить свою «шумовую» стратегию как на мир, так и на самое себя. Таковы романы о романах.
Такой роман, например французской «новой волны», возник в кругах литераторов, признающих состояние прозы кризисным, а роман – жанром, который постигли бессилие и паралич. Поскольку искренне согласиться с таким диагнозом означало для писателей просто замолчать, они произвели то, что в психоанализе известно как «перенос»: спроецировали бессилие либо на мир, либо на язык, либо на то и другое одновременно.
Однако тут произошло нечто любопытное. Еще древний философ Горгий из Леонтин учил, что ничто не существует, а если бы существовало, то мы не могли бы об этом знать, а если бы и узнали, то не было бы способа убедиться, что это истина. Эту его радикально скептическую программу не приняли слишком серьезно. Так обычно и бывает с программами, которые в своем экстремизме требуют от нас сразу слишком многого.
Если в литературе можно говорить о некоем соответствии коперниканской революции, то Коперником литературы надо назвать Достоевского, потому что он привел в движение окаменевшую поэтику, ввел в рамки литературного произведения нестройный хор рассказчиков, свидетельствующих о несовершенстве любого знания человеческих дел. Стратегию «новой волны» иногда сравнивают с происшедшим в XX веке релятивистским переворотом в науке. И неправильно, потому что уже Достоевский, отняв у писателей привилегию всеведения, достиг той позиции, которой в физике соответствует неопределенность измерений. Эта неопределенность признана ныне неопровержимой. Великий россиянин отнял у литературы всеведение, которое на самом деле было упрощенным подходом, но не уменьшил (наоборот, как раз увеличил) количество того, что можно рассказать о людских делах. Ну а «новый роман» отбирает много, взамен же дает мало. Исповедальный характер не является для прозы эквивалентом релятивизма физики, потому что релятивизм этой последней не основывается на сомнениях в самой себе. Между тем «новый роман» – это литература, которая гораздо меньше, чем ее предшественники, интересуется миром, зато весьма живо интересуется именно литературой. И вот «новая волна» дает сюжеты, в предметном плане довольно банальные, а вся ее оригинальность оказывается лежащей в плоскости повествовательной манеры. Как верно заметил М. Гловинский, методология создания «новых романов» – это по существу беллетризованная методология, о которой рассказывается в этих же романах. Их авторам удалось создать информацию до такой степени отселектированную, что в ней почти ничего не осталось от мира, лежащего за пределами романа. Открытость «новых романов» обращена в сторону их же повествования, а не в сторону реальности. Изменения, происшедшие в «новых романах» в отношении описанной в них реальности – только функция упомянутых методологических изменений.
Позднейшие опыты в области «нового романа» ставят в конечном счете под сомнение и сам язык как средство коммуникации. Бялошевский и Ионеско, особенно в своих ранних произведениях, изображали только омертвелость человеческих скоплений, но все же моделировали «реальную языковую ситуацию». Беккет возвел разрушение этой ситуации в онтологический ранг. Последние слова его романа «Моллой» содержат в этом отношении целую программу: «Полночь. В окна льет дождь. Нет полночи. Не льет дождь». Так и литература как информация себя уничтожает. Это (по крайней мере в физикалистском плане) соответствует и теории – в самом деле, информацию можно уничтожать с помощью информации. Любопытно, как дальше будут развиваться события в рамках данного направления. Если оно не стремится дойти до гробового молчания, то неизбежен какой-то радикальный поворот.
Классификация кодов
В сфере языкового восприятия действуют определенные психофизиологические закономерности, отчасти подобные тем, которые (наряду с другими) открыты также в физиологической оптике. Соответствующие механизмы компенсируют изменения размеров наблюдаемых объектов: изменения, вызванные тем, что разные объекты лежат от нас на разном расстоянии. Благодаря этому мы знаем, что человек, видимый вблизи, – тот же самый и такой же самый человек, как и видимый с крыши небоскреба. Тем не менее компенсация не является полной, и с очень больших или очень малых расстояний – непривычных – предметы, вообще-то нам знакомые, выглядят непохожими на себя. То есть можно взять объекты – вроде стебля травы в поле, камешка у дороги или крылышка мухи, – к которым наше отношение вполне нейтрально, потому что они нам не угрожают и нас не привлекают. И окажется, что даже о них в зрительном восприятии информация семантически неинвариантна в подлинном смысле, если мы их рассматриваем в непривычном и потому «аномальном» удалении. Дело не в том, что нам нужна просто какая-то дополнительная конкретизирующая информация через каналы органов чувств. Не всегда ведь она решает дело. Если мы разглядываем гладкую стеклянную бусину с расстояния в сантиметр, то узнаем о ее структуре не больше, чем если будем разглядывать ее с расстояния в двадцать сантиметров. И однако семантическое (а не только «в отношении размера») различие существует.
В чем-то параллельные с этим, хотя и не тождественные явления встречаются также в языковом восприятии, в особенности в восприятии печатного (или рукописного) текста. Интенсивность активации восприятия в семантическом плане зависит больше от эффективности выделения того, что автор или редактор принял в качестве «кодовых единиц», чем от размеров шрифта. Впрочем, крупные заголовки в газетах выполняют функцию не столько суверенно-семантическую, сколько сигнальную: они как направляющие стрелки указывают нам, в чем надо увидеть главное, откуда начинать читать. Но вот если стихотворная строка разломана на фрагменты, причем в некоторых из них только по одному слову, это усиливает производимый эффект: не оптический, а семантический. В прозе тот же феномен проявляется от случая к случаю: например, когда отделяют интервалами слова того или иного действующего лица, подчеркивая его обособленность и индивидуальность. Но зато проза использует в аналогичных случаях другие средства. Прежде всего – частотные. Если автор хочет, чтобы название цвета сильнее действовало на читателя, он сделает предыдущий текст как бы «серым», то есть не будет именовать подряд множество других цветов (и конечно, тот, который предстоит упомянуть). В конце концов, это вещи известные: множество эпитетов друг друга взаимно гасят. Ибо вообще употребление слов в качестве стимулов подчинено обычным механизмам физиологического восприятия. Если «пережать педаль», то в итоге происходит полная инфляция: даже «самые сильные» слова перестают производить впечатление. Но, кроме этого, есть и другой феномен, на который внимания не обращают. У слов есть некие «семантические размеры», колеблющиеся в значительных пределах в зависимости от применяемой автором тактики. Один предпочтет сыпать «словесной мелочью» – нарочно, чтобы слова взаимно гасили друг друга и как бы образовывали рисунки без отчетливых контуров, частично громоздясь, частично пересекаясь в виде сплетения тонких черточек, из которых глаз читателя должен как-то вылавливать «оптимальную» форму. Другой, напротив, благодаря лапидарности, экономности, разумному использованию understatement [22] сохраняет свои самые ударные приемы как бы в резерве – на «чрезвычайный случай». Это уже соответствует спокойному, монолитному оконтуриванию рисунка текста. Что получается в итоге обеих этих противостоящих друг другу тактик? В первом случае «зерно значения» воспринимается как некая малозаметная единица, а окружающие ее слова – как нечто «еще меньшее» (опять-таки семантически, а не оптически!). Во втором случае слова как бы укрупняются, набирают тяжесть, вес, даже некоторую осязаемость. Ибо возникает впечатление, подобное тем, какие мы испытываем от картин, нарисованных, пожалуй, в импрессионистской манере в ее пуантилистском варианте. В пуантилистской картине легко выделить «кодовые единицы» с их зернистостью, причем основное «зерно» иногда разрастается (тогда перед нами крупные, сплошные цветные пятна), иногда вообще пропадает и теряется – например, в натуралистической технике. Текст, тяготеющий к созданию миметического впечатления, не может быть ни слишком «серым», со слишком «малым» семантическим зерном, но не может и складываться из слишком «крупных» единиц. Если в первом случае наглядность чрезмерно теряется (то есть воспринимая текст, читатель ничего из сказанного «не увидит»), то во втором случае язык слишком автономизуется и перестает быть «прозрачным» для высказываемого.