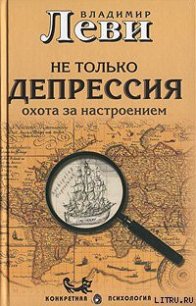Черное солнце. Депрессия и меланхолия - Кристева Юлия (читать книги полностью .txt) 📗
— У вас нет падучей? — Нет.
— Значит, будет. Берегитесь, Кириллов, я слышал, что именно так падучая начинается <…>». По поводу же краткости этого состояния дается такой комментарий: «Вспомните Магометов кувшин, не успевший пролиться, пока он облетел на коне своем рай. Кувшин-это те же пять секунд; слишком напоминает вашу гармонию, а Магомет был эпилептик. Берегитесь, Кириллов, падучая!»
Не сводимый к чувствам аффект в своем двойном качестве энергетического потока и психического вписывания — прозрачного, ясного, гармоничного, хотя и внеязыкового — передан здесь с поразительной точностью. Аффект не опосредуется языком, и когда язык ссылается на него, он не связывается с ним так, как он связывается с идеей. Вербализация аффектов (сознательных или бессознательных) характеризуется экономией, отличной от экономии вербализации идей (сознательных или бессознательных). Можно предположить, что вербализация бессознательных аффектов не делает их сознательными (субъект после этой вербализации все равно не знает, откуда и как возникает его радость или печаль и не может видоизменить их), а заставляет их работать в двух режимах. С одной стороны, аффекты перераспределяют порядок языка и порождают определенный стиль. С другой стороны, они показывают бессознательное в виде персонажей и актов, которые представляют наиболее запретные и трансгрессивные движения влечений. Литература как истерия, которая, по Фрейду является «искаженным произведением искусства», — это режиссура аффектов и на интерсубъективном уровне (персонажи), и на внутрилингвистическом (стиль).
Вероятно, именно это точное понимание аффекта привело Достоевского к концепции, согласно которой человечность человека заключается не столько в поиске удовольствия или выгоды (подобная идея поддерживает даже психоанализ Фрейда, хотя в конечном счете верховенством наделяется у него то, что «по ту сторону принципа удовольствия»), сколько в стремлении к сладостному страданию. Это страдание отличается от враждебности или гнева, оно менее объектно и более обращено на собственную личность-так что без этого страдания осталась бы лишь потеря себя в ночи тела. Это заторможенное влечение к смерти, садизм, закрепощенный надзором сознания и обращенный на Я, ставшее болезненным и неактивным: «Злоба у меня опять-таки вследствие этих проклятых законов сознания химическому разложению подвергается. Смотришь — предмет улетучивается, резоны испаряются, виновник не отыскивается, обида становится не обидой, а фатумом, чем-то вроде зубной бати, в которой никто не виноват». Наконец, предлагается следующая апология страдания, достойная средневековой acedia и даже Иова: «И почему вы так твердо, так торжественно уверены, что только одно нормальное и положительное, — одним словом, только одно благоденствие человеку выгодно? Не ошибается ли разум-то в выгодах? Ведь, может быть, человек любит не одно благоденствие? Может быть, он ровно настолько же любит страдание? Может быть, страдание-то ему ровно настолько же и выгодно, как благоденствие? А человек иногда ужасно любит страдание, до страсти, и это факт». Весьма характерное для Достоевского определение страдания как утверждения свободы как каприза: «Я ведь тут собственно не за страдание стою, да и не за благоденствие. Стою я… за свой каприз и за то, чтоб он был мне гарантирован, когда понадобится. Страдание, например, в водевилях не допускается, я это знаю. В хрустальном дворце оно и немыслимо: страдание есть сомнение, есть отрицание <…> Страдание — да ведь это единственная причина сознания. Я хоть и доложил вначале, что сознание, по-моему, есть величайшее для человека несчастие, но я знаю, что человек его любит и не променяет ни на какие удовлетворения».
Нарушитель запретов, этот «сверхчеловек» Достоевского, который пытается найти себя — благодаря апологии преступления (в том же Раскольникове), — это не нигилист, а человек ценностей. [146] Его страдание — и есть тому доказательство, рождающееся из постоянного поиска смысла. Тот, у кого есть сознание своего преступного акта, тем самым уже наказан за него, поскольку от него страдает, «коль сознает ошибку. Это и наказание ему. — опричь каторги»; «Страдание и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца. Истинно великие люди, мне кажется, должны ощущать на свете великую грусть». Поэтому, когда Николай возьмет на себя вину за преступление, которого не совершал, Порфирий сумеет открыть в этом ревностном самообвинении древнюю русскую мистическую традицию, которая превозносит страдание в качестве признака человечности: «Знаете ли <…> что значит у иных из них „пострадать“? Это не то чтобы за кого-нибудь, а так просто „пострадать надо“; страдание, значит, принять, а от властей — так тем паче». «Пострадайте. Миколка-то, может, и прав, что страданья хочет».
Страдание, таким образом, оказывается фактом сознания, сознание (по Достоевскому) говорит: страдай. «Сознающего, стало быть, страдающего, но я не хочу страдать ибо для чего бы я согласился страдать? Природа, чрез сознание мое, возвещает мне о какой-то гармонии в целом. Человеческое сознание наделало из этого возвещения религий <…> Должен смириться, принять страдание в виду гармонии в целом и согласиться жить <…> И для чего бы я должен был так заботиться о его [Целого] сохранении после меня — вот вопрос? Пусть уж лучше я был бы создан как все животные, то есть живущим, но не сознающим себя разумно; сознание же мое есть именно не гармония, а, напротив, дисгармония, потому что я с ним несчастлив. Посмотрите, кто счастлив на свете и какие люди соглашаются жить? Как раз те, которые похожи на животных и ближе подходят под их тип по малому развитию их сознания» [147]. В этой перспективе нигилистическое самоубийство само оказывается осуществлением человеческого бытия, наделенного сознанием, но… лишенного любви-прощения, идеального смысла. Бога.
Не будем спешить с интерпретацией такого высказывания как признания в патологическом мазохизме. Разве человеческое существо как символическое животное выживает не тогда, когда означивает ненависть, уничтожение другого, а сначала, быть может, и собственное умерщвление? Чрезмерное, но сдержанное насилие приводит к умерщвлению Я им самим, что обеспечивает рождение субъекта. Сточки зрения диахронии, здесь мы имеем дело с отметкой, которая находится ниже субъективности, то есть с тем, что предшествует обособлению другого, который становится объектом ненависти или любви. Но именно это сдерживание ненависти обеспечивает и овладение знаками — я не атакую, я говорю, то есть высказываю (или записываю) свой страх и свою боль.
Мое страдание — это подкладка моей речи, моей культуры. Легко представимы мазохистские риски подобной культурности. А писатель может извлечь из него момент ликования посредством манипуляции, которую он, основываясь на этом страдании, сумеет осуществить с вещами и знаками.
Страдание и его изнанка, составляющая с ним единое целое, наслаждение или «сладострастие» в смысле Достоевского, представляются в качестве решающего признака разрыва, который непосредственно предшествует автономизации (хронологической и логической) субъекта и Другого. Речь может идти о внешнем или внутреннем биоэнергетическом разрыве или же о символическом разрыве, обусловленном расставанием, наказанием, изгнанием. Всегда можно вспомнить о суровом нраве отца Достоевского, опозоренного своими крепостными и, возможно, убитого ими (так считали некоторые биографы, сегодня опровергнутые). Страдание — это первая или последняя попытка субъекта утвердить свое «собственное» в непосредственной близости от биологического единства, поставленного под вопрос, и нарциссизма, подвергнутого испытанию. Поэтому подобный гуморальный избыток, претенциозное разбухание «собственного» выражает существенный момент психики, находящейся в процессе собирания себя или же обвала под действием уже господствующего Другого, хотя он и не распознан в своей всемогущей инаковости, — то есть под действием взгляда идеала Я, спаянного с идеальным Я.