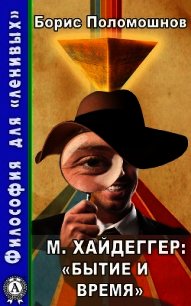Хайдеггер и восточная философия: поиски взаимодополнительности культур - Торчинов Евгений Алексеевич (книги онлайн полные версии TXT) 📗
Здесь мы сталкиваемся с принципиальным отличием традиционного китайского понимания «вещи» от древнегреческого: «У греков был уместный термин для „вещей“: pragmata, т.е. то, с чем имеют дело в озаботившемся обращении (praxis). Но онтологически как раз специфично „прагматический“ характер этих pragmata они оставляли в темноте, определяя их „ближайшим образом“ как „просто вещи“ [371]. То есть для греков вещь мыслилась прежде всего как средство [372], тогда как для китайского понимания это скорее то, что существует «без почему», вполне своетако (подобно розе из цитировавшегося выше двустишия Ангелуса Силезиуса). Вещь в китайском понимании – это событие (ши) и со-бытие, соприсутствующее сущее. Находясь в самих себе, они являются только вещами без какой-либо прагматической нагрузки: горы это горы, и воды это воды [373].
Поскольку китайской культуре чуждо противопоставление вещности и духовности, представление о человеке как о «вещи» вполне гармонично сосуществует с признанием за человеком особого места в универсуме. Человек? с одной стороны? рассматривается в китайской традиции как одно из вещей–существ космоса, а с другой – выделяется из этого множества и ставится в один ряд с господствующими силами Вселенной – Небом и Землей. Так образуется универсальная космическая триада (сань цай) – Небо, Земля и Человек, триада, в которой Человек занимает центральное положение посредника и объединяющего универсум начала. Как посредник (медиатор), Человек соединяет, связывает воедино Небо и Землю (на это, по китайским представлениям, указывает и его прямохождение, сама вертикальность человеческого тела), а в качестве объединяющего начала Человек является микрокосмом («маленьким Небом и Землей», сяо тянь-ди), отражающим в себе все многообразие природы и включающего его в себя. С другой стороны, человек может преодолеть свою «отключенность», «отдельность» от мира и слиться с телом (ти) космоса. Образовав единое целое со всем сущим (этот аспект единосущия человека и мира особенно подчеркивался не только даосизмом, но и неоконфуцианством). Интересно, что практически все современные традиционно ориентирующиеся философы «постконфуцианцы» (Фэн Юлань, Лян Шумин, Сюн Шили, Тан Цзюньи, Моу Цзунсань и другие) считают знаменитую фразу древнего конфуцианца Мэн-цзы «Человек и Небо (здесь природа как целое – Е.Т.) едины и гармоничны» (тянь жэнь хэ и) своего рода лозунгом и резюме всей китайской философской мысли. В своем философском измерении тема Человека как начала, соприродного Небу и Земле по существу вводит тему присутствия. Мир китайской мысли есть присутствиеразмерное целое-бытие и его Человек как член мировой триады и ее объединяющий принцип не есть абстрактный дистиллированный познающий субъект новоевропейской философии. Скорее он есть гипостазированное (или олицетворенное) кто присутствия; он тот, благодаря которому бытие мира становится также бытием в-мире и само бытие обретает свою завершенную мирность.
Будучи микрокосмом, человек обладает способностью в свою очередь моделировать вселенную, порождая различные типы моделей–микрокосмов. Последнее качество человека нашло свое выражение как в китайских эстетических концепциях, так и непосредственно в искусстве, ибо знаменитые китайские сады и парки (наиболее показательны парки Сучжоу и сад летнего императорского дворца Ихэюань, представляющий собой синтез всего многовекового садово-паркового искусства Китая), а также пейзажи с карликовыми деревьями (пань цзин, «пейзаж на блюде») были ничем иным, как попытками реализовать создание адекватной модели мироздания, «космос в вазе с цветами», который, будучи аналогичен гармоничному и стройному универсуму, мог служить достойным объектом эстетического созерцания, порождающего чувство сопричастности универсуму и единству (единотелесности, и ти) с природой.
Другим примером рукотворной микрокосмической модели мира в китайской традиции является даосская алхимическая лаборатория, ибо алхимический процесс, совершающийся в ретортах и тиглях даоса, взыскующего тайн бессмертия, был для алхимика ничем иным, как аналогом космических процессов вселенной, искусственно воспроизведенной в лабораторных условиях.
«В присутствии лежит сущностная тенденция к близости», – говорит Хайдеггер [374]. В традиционной культуре Китая эта тенденция человеческого присутствия нашла свое выражение не в технологической оснащенности, сжимающей пространство и время (как в культуре Запада – средства коммуникации и распространения информации), а в особой экзистенциальной интимной близости человека и природы, вещного, но живого мира, единого и многообразного в этом единстве универсума. Человек здесь доверительно близок миру. Его в-мире бытие не есть лишь формальное помещение в пространство вселенной, «между Небом и Землей». Это друг-в-друге бытие вещей – существ и человеческого присутствия, бытие как экзистенциал – «пребывание при..»., «доверительная близость с…»… «Бытие-в есть соответственно формальное экзистенциальное выражение бытия присутствия, имеющего сущностное устройство бытия-в-мире» [375].
Можно ли из сказанного выше прийти к заключению, что онтология китайской культуры, подобно онтологии культуры европейской, была онтологией вещей? И да, и нет: само понимание вещи и ее онтологического статуса было в китайской культуре совершенно иным, чем в Европе. С европейской точки зрения, это онтология процессов и ситуаций, но с китайской – это онтология вещей – существ (у), понимаемых как процессы и ситуации, что также близко позиции Хайдеггера.
Одной из важнейших категорий китайской культуры является понятие «перемены» (и), запечатленное в названии фундаментальнейшего памятника этой культуры – И-цзина («Канон Перемен» или «Книга Перемен»). Согласно концепции перемен, все сущее находится в процессе постоянного изменения, определяемого фазами цикла «отрицательное–положительное» (инь–ян) [376]: «То инь, то ян – это и есть Дао – Путь» [377]. Традиция утверждает, что шестьдесят четыре гексаграммы (графических символа «Канона Перемен» из различных комбинаций шести непрерывных, положительных, и прерывистых, отрицательных, черт) метафорически описывают, фиксируют и обозначают все возможные в мире ситуации, то есть фазы процесса – вещи в ее взаимодействии с другими процессами – вещами. Ситуацию обозначает и китайский иероглиф, не только как элемент письменности, но и как базовый компонент культуры [378]. Следовательно, каждая вещь представляет собой процесс различной скорости протекания, что отражает динамическую природу вещи. Интересно, что в европейской культуре, несмотря на наличие в ней, начиная с античности, категории становления (классически выраженной в учении Гераклита), понимание мира и вещей как процессов, было впервые сформулировано только А.Н. Уайтхедом в первой половине нашего столетия. Это связано, видимо, с тем, что со времен Платона европейская мысль была склонна видеть в процессе и изменении знак неподлинности бытия, ущербного бывания, отличного от вневременной истины вечного и неизменного действительного бытия. И только принципиальный «антиплатонизм» (выражение Э. Левинаса) современной западной философии позволил ей по-иному взглянуть на проблему процессов и изменений: «Итак, современная философия значения, восходит ли она к гегелевским, бергсоновским или феноменологическим (как в случае с Хайдеггером – Е.Т.) корням, в одном основополагающем моменте противостоит Платону; постижимое немыслимо вне подсказавшего его становления. Не существует значения в себе, будто бы достижимого для мышления в прыжке через искаженные или верные, но в любом случае ощутимые и ведущие к нему отражения» [379]. К этой линии развития западной мысли принадлежит и философия Хайдеггера. Китайская же мысль не знала оппозиций «вечность–время» и «бытие–становление». Поэтому ей ничто не мешало рассматривать мир в категориях онтологии вещей–процессов. Таким образом вещь китайской культуры – не бездушный объект для деятеля–субъекта, оперирующего вещами по своему произволу, а нечто своеприродное, своесущее (цзы син; цзы дэ) и самодвижущееся, самоизменяющееся (цзы хуа).