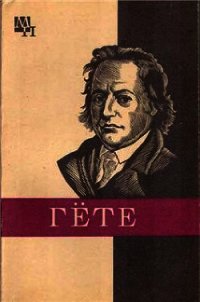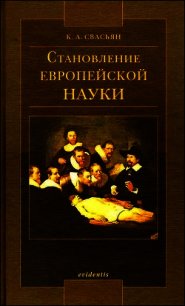Философское мировоззрение Гёте - Свасьян Карен Араевич (читаем полную версию книг бесплатно txt) 📗
Но если так, то к чему тогда эти «чисто» схоластические дистинкции между предлогами «с» и «из»? Выходит, что когда мы воспринимаем вещь, мы только потому и оказываемся способными на это, что самый акт восприятия предварен внеопытными (почему не сказать прямо: неопытными?) условиями, т. е. «чистыми» (читай: пустыми) формами собственной субъективности. Я не знаю, был ли Кант ироником и над чем он иронизировал, но когда я читаю в тексте «Критики чистого разума» мимоходом оброненную фразу о том, что опыт есть наш наставник, от такой иронии мне действительно становится не по себе. Чему же он нас наставляет, этот жалкий и раскромсанный на части automaton materiale, который поначалу пассивно аффицируется каким-то «иксом», потом загоняется в смирительные рубашки времени и пространства и, наконец, безропотно прокручивается в двенадцатизубчатой рассудочной мясорубке — к вящей славе Трансцендентального Субъекта, благополучно переселившегося из демонологии в логику и вмиг обглодавшего логику как кость! Канту следовало бы начать не с вопроса: «Как возможны синтетические априорные суждения?», а с вопроса: «Как невозможен опыт?» Я выскажу парадокс, впрочем, вполне естественный: стремление Канта к «чистоте» привело к тому, что, «очищая» познание, он «очистил» его и от познания собственно или, иначе говоря, «обчистил» его до последнего (мнимого!) талера. Опыт в кантовском понимании до поразительного напоминает тот знаменитый лихтенберговский нож без ручки, у которого не было лезвия, и именно в этом смысле обмолвился однажды Шарль Пеги гениальным и достойным только художника бредом о Канте: «У Канта, — так говорит он, — чистые руки, но у него нет рук».
Познавательный праксис Гёте выявляет природу рассудка в совершенно ином смысле. Во всем строе гётевской продуктивности просвечивает единый императив: познание не должно иметь познавательных предпосылок. Он высказывает это иначе, в словах: «Я желал бы критики человеческого рассудка», но подтекст здесь тот же: критика рассудка и есть устранение всяческих предрассудков; рассудок должен браться не догматически, без выверения его сознанием, а именно сознательно. Когда Кант говорит о предваряющих опыт априорных правилах, он, в сущности, лишь предпосылает познанию нечто лежащее вне познания. Ибо чем оказываются при более пристальном подходе эти правила с кантианской же точки зрения?
Само по себе априорное понятие считает Кант пустым; акт познания есть акт заполнения его опытным материалом. Если же оно вознамерится помыслить нечто в опыте не данное, то оно не только останется пустым, но и станет химеричным. Понятия для опыта, опыт для понятий. Теперь зададим вопрос: какой опыт соответствует самим правилам, предпосылаемым опыту? Одно из двух: либо им соответствует какой-то опыт, но тогда как могли бы они предварять опыт вообще, либо же для них не существует никакого опыта, и тогда, будучи познанием (ну, хотя бы для самого Канта), они оказываются химерами. Познание должно быть свободным от предпосылок. Что это за начало познания, когда оно начинается с суждения: «Рассудок дает опыту правила» и т. д.? Откуда, если не из «познания», взялось это суждение? Выходит, что вместо начала познания нам подсовывается уже бессознательно начатое познание в виде суждения, не имеющего никакого опытного аналога. Противоречия растут, как снежный ком; я уже не касаюсь пресловутой «вещи в себе», причиняющей нам ощущения, забыв скандальнейшим образом о том, что причина есть лишь понятие рассудка. Не касаюсь и недопустимого логически суждения о том, что понятие предопределяет суждение. Обо всем этом написаны горы книг. Отмечу лишь, что некритически допущенные предпосылки познания оказались сомнительным фундаментом для строго логических построений. Канта, психологически говоря, интересовало не само познание, взятое безотносительно («бескорыстно»!); проблема познания растревожила его впервые в связи с юмовским скептицизмом. Юм, пробудивший его от догматической спячки, не давал ему покоя; нужно было во что бы то ни стало ответить Юму и спасти познание от призраков оскорбительного психологизма.
Ответил ли Кант Юму? [28]С одной стороны, кажется, что да. Если причинность является трансцендентальным понятием, предшествующим опыту и опыт обусловливающим, то ни о каком скептицизме не может быть и речи. Юм, выводящий законы из опыта, объяснял причинность как привычку, но, по Канту, справедливо как раз обратное: не законы выводятся из опыта, а опыт выводится из них; строгость и обшеобязательность научных суждений обеспечивается именно таким образом. Истина, утверждает Кант, заключается в опыте, а не в чистых понятиях — таков благопристойный фасад его критицизма. Нужно лишь учесть маленькую оговорку, играющую здесь роль носа Клеопатры, а именно: опыт невозможен без чистых понятий как условий его. Выходит, что истинное обусловлено неистинным; причинность, переставшая быть эмпирической привычкой, становится, так сказать, трансцендентальной привычкой, а «коперниканский подвиг» оказывается на деле ловким логическим расчетом.
Пафос кантовского ответа Юму сводится, таким образом, к защите лишь внешнего престижа научного знания. В том, что наше познание ограничено рамками субъективности, согласно сходятся оба; ни три способа соединения представлений у Юма (подобие, пространственно-временное соотношение, причинность), ни подведение представлений под единство апперцепции у Канта никоим образом не выражают внутренней связи в самих вещах. Познание всецело субъективно; разница между Юмом и Кантом состоит лишь в том, что первый настаивает на эмпирически субъективном характере познания, а второй подчеркивает трансцендентально субъективную значимость его. Гёте отклоняет как первый, так и второй ответ.
Для того, чтобы в полной мере осознать всю оригинальность ответа самого Гёте, позволительно сравнить его с господствующими в то время философскими тенденциями. Схематически ситуацию можно передать в следующем ряде: догматический идеализм (Вольф) — скептический эмпиризм (Юм) — критический идеализм (Кант). Вольф утверждает внеопытное познание сущего. Юм противопоставляет этому утверждению абсолютность опыта при полной дискредитации мысли. Кант переносит проблему в середину обеих крайностей; у Вольфа он заимствует априорность, отбрасывая ее транссубъективные претензии, у Юма же берет опыт, урезанный в притязаниях на абсолютность. Ответ Канта: истина в опыте, но опыт обусловлен внеопытным. Или иначе: мы познаем априорно (уступка Вольфу), но познаем не сущее (критика Вольфа), а собственный субъективный опыт (уступка Юму), который, однако, не случаен (критика Юма), а предопределен априори (выход к Копернику). Пассаж, что и говорить, виртуозный, но за блеском техники какие печальные сюрпризы! Неокантианцам предстояла адская работа очищения этой техники от губительных ляпсусов. Уже современников (Шульце-Энезидем, Якоби) поражали они; уже возмущенный Фихте перенес проблему из сферы гносеологии в сферу… френологии, объясняя «конвульсивное доказательство реальности вещи в себе» (меткое выражение Лааса) неполноценностью черепа философа («Dreiviertelkopf» — «головой на три четверти» — увиделся ему автор «Критики чистого разума»). Уже Гегель негодующе спрашивал: «А что такое опыт для Канта? Это — не что иное, как подсвечник, стоящий вот здесь, и табакерка, лежащая вон там». И еще предстояло школе Когена раскладывать труднейший пасьянс: очищать Гегеля Кантом и после очищать Канта Гегелем, но уже очищенным… Кантом. «Больше, — говорит Гёте, — мне рассказывать не о чем; вы видите, что над немцами спокон веков тяготеет проклятие — жить в киммерийских ночах умозрения».
Избавиться от этого проклятия можно было лишь путем устранения познавательных предпосылок. Это значит: довести познание до начала, до нулевой отметки, с тем чтобы непредвзято воспроизвести в мысленном анализе его ход. Устраняются все понятия, определения, термины, суждения; остается только чистый экран, изображающий непосредственный чувственный опыт. Эту начальную стадию познания, в которой познание собственно еще и не начиналось, называет Гёте стадией «эмпирического феномена». Здесь наличествует чистый поток первоначальных ощущений и исключены любые определительные суждения [29]. Всякое суждение, предваряющее опыт, есть lapsus judicii; таково, например, кантовское суждение о том, что рассудок а priori определяет опыт. Достигнуть этого реально— труднейшая задача; едва начав процедуру, мы убеждаемся, что уже элементарнейшие ощущения проникнуты бессознательными мысленными определениями и что априорные метастазы охватывают всю сферу переживаний и восприятий. Достаточно взглянуть на какой-нибудь предмет и тщательно просмотреть природу его восприятия, чтобы обнаружить в самом восприятии явные или смутные следы того, что не имеет еще никакой познавательной ценности.