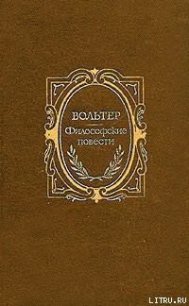Эсхатологический оптимизм. Философские размышления - Дугина Дарья Александровна (книги онлайн бесплатно txt, fb2) 📗
Когда читаешь роман Андрея Белого, он производит сильное эмоциональное впечатление. Безусловно, он встраивается в ту ось, которую задал уже Гоголь, описывая свой Петербург – автономные носы чиновников, которые свободно бродят по проспектам, прямолинейные и квадратные петербургские улицы и скверы, тщательно записывающие свой бред сумасшедшие бюрократы, положивший все богатство мира в казенную шинель Акакий Акакиевич, темные и безысходные тупики падения нищих художников и обреченных унылых дам легкого поведения. Что-то подобное мы видим и в Петербурге Достоевского – атмосфера, вполне способствующая явлению бесов. Но при этом, если у Достоевского и Гоголя (в особенной степени – у Достоевского), параллельно существует смыслообразующая сакральная ось, вокруг которой у русского человека происходит трудное формирование полноценного духа, – как ориентир, как надежда на взлет, на бросок медного коня в небеса, – у Андрея Белого этого нет.
Почему у него не возникает эта ось? Возможно, потому, что он уже не пронизан духом православия, отошел от него, погрузился в довольно плоские неомистические учения – прежде всего, под влиянием русских штайнерианцев и самого Р. Штейнера.
Заплесневение России
«Петербург» Белого – это процесс заплесневения России, это церемония погружения ее в подземное царство, где больше нет Аполлона, светлого верховного начала, где государство представлено симулякром и бездушной выродившейся бюрократической системой, где патриархат (прежде всего отношения отца и сына) подорван и представляет собой отчужденный формализм, переходящий в восстание. А «Дионис терзаемый», который у греков и в классической культуре был богом, преодолевающим дуальности, представлен в фигуре сына-студента, зачатого, кстати, варварским путем. В романе подчеркнуто, что Николай Аполлонович был зачат, когда его отец фактически изнасиловал его мать. Получается, что такой Дионис – это черный двойник, шут, дубль. Как шут он становится красным домино, паяцем, юродивым без Христа.
Так пронзительно Андрей Белый описывает Анти-Россию. И если у Вячеслава Иванова, и у всей культуры Серебряного века, к Аполлону отношение вполне серьезное, – даже когда над ним иронизируют, он представляет собой бога, – то здесь, у Белого, Аполлон Аполлонович Аблеухов – это уже не бог, а его черная копия.
В завершение хотела бы процитировать фрагмент из романа, где Николай Аполлонович, псевдо-Дионис, черный Дионис, говорит о своем отце – о псевдо-Аполлоне. Как он его видит.
«И понял я, что все, что ни есть – есть отродье. Людей-то нет, все они – порождения. Аполлон Аполлонович – это тоже порождение. Неприятная сумма из крови, из кожи. А мясо потеет и портится на тепле. Души не было, плоть ненавижу» [113].
Мы видим у Белого не архетипы и Логосы, а их симулякры, их тени, помещенные в область инфернального. Отталкиваясь от них, трудно прийти к полноценной метафизической и поэтической топологии, поскольку вся ткань «Петербурга» образует семантическое болото – город возвращается к своим корням. Этот духовный кризис Серебряного века, напластование подмен, много говорит о последних периодах Российской Империи и отчасти объясняет ее будущий коллапс.
И все же надежда есть – если конь Медного всадника взмоет в неизъяснимую глубь русского неба…
Политический субъект популизма и проблематика «несчастного сознания»
Двойные стандарты Запада
Я живо интересуюсь проблематикой феминизма и время от времени посещаю посвященные ей мероприятия. Нельзя не заметить, как нашему обществу западные кураторы настойчиво навязывают тематику гендера. Такой подход прямо ориентирован на разрушение семьи. Но подобная навязчивая линия камуфлируется под свободный дискурс.
Так же действуют и западные постмодернисты. Они выступают за разрушения государства, восстание против него. Но лишь тогда, когда речь идет о нашем государстве, о России. Здесь они клянут иерархию и власть. Свои же олигархию, монополии и закрытые элитные группы они в упор не замечают. Так же и с феминизмом.
Западные философские «сетки» активно накладываются на наше общество, на наше пространство, но делается это весьма избирательно. Критике подлежат прежде всего наши ценности, устои и институты. В этом трудно не заметить двойные стандарты. Но на самом деле у меня доклад не об этом. Он посвящен политическому субъекту и проблематике «несчастного сознания».
Политик как философ
Когда мы пытаемся понять, каким должен быть политик, каким должно быть государство, мы не можем обойти стороной Платона и его диалог «Государство» [114], который является вершиной не только его политической философии, но и средоточием всего его учения о метафизике, о душе, о психике, об онтологии и космологии. Диалог «Государство» – комплексный и многомерный. Но главный вопрос, который в нем разбирается, это кто такой политик? Кто такой подлинный политический субъект?
Ответ дается сразу. Настоящим политиком, истинным субъектом Политического является философ. Всегда и исключительно философ.
Что делает этого философа философом? Всем известен миф о пещере, который излагается в седьмой книге платоновского «Государства». Философ – это человек, который из пещерного состояния погруженности в материю, из статуса полной неосведомленности, из пребывания в созерцании теней, невнятных предметов и образов, разрывая цепи и сбрасывая рабские колодки, дерзновенно поднимается к выходу из пещеры, преодолевает несколько уровней и наконец выходит на свет и видит иерархическую череду прекрасных идеи и самую высшую из них – идею Единого.
Кажется, при чем здесь политика и где здесь вообще политическая деятельность?
Философ-политик – существо обреченное
А вот тут начинается самое интересное. Седьмая книга 519 фрагмент «d». В ней Сократ говорит:
– Раз мы – основатели государства, нашим делом будет заставлять лучшие натуры учиться тому познанию, которое мы раньше назвали самым высоким, то есть умению видеть благо и совершать к нему восхождение; но когда, высоко поднявшись, они в достаточной мере его узрят, мы не позволим им того, что в наше время им разрешается.
– Что ты имеешь в виду?
– Мы не позволим им оставаться там, на вершине, из нежелания спуститься снова к тем узникам, и, худо ли бедно ли, они должны будут разделить с ними труды их и почести. [115]
Сократ имеет в виду, что в обычном обществе, а не в идеальном государстве, философы просто ушли бы от политических проблем, чтобы достичь вершин умозрения и там созерцать Единое: ведь это и есть высшая цель философа.
Но в идеальном государстве, в Калиполисе, философам оставаться на вершинах нельзя. Поэтому-то Сократ и уточняет: «Мы не позволим им оставаться там». В идеальном государстве философа заставят спуститься вниз. И вот тут философ из созерцателя, из свидетеля Единого, Блага, отрывается от эйфории созерцания высшего начала, которое в христианстве будет интерпретировано как Бог, а в различных других неоплатонических моделях – как боги, идеи, архетипы, образцы, генады неоплатонизма, и должен превратиться в политика, спуститься вниз, в общество. Тут-то и начинается настоящая политика. Так учреждается государство.
Когда этот философ, который увидел «то, что по ту сторону сущего» (ἐπέκεινα τῆς οὐσίας), в мире архетипов, идей – увидел, как все есть на самом деле, – спускается вниз, Главкон справедливо говорит Сократу:
– Выходит, мы будем несправедливы к этим выдающимся людям и из-за нас они будут жить хуже, чем могли бы. [116]