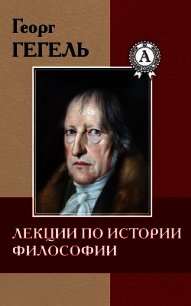Язык философии - Бибихин Владимир Вениаминович (читать бесплатно полные книги .TXT) 📗
Или у философии нет выбора, потому что она не что, а как? Плотин напоминает, что человек в середине поля сражения уже не может из него выйти, он свободен только вести себя робко или со всем напряжением. Может быть, философия — это мысль, отпускающая себя до всего допущенного ей размаха?
Длинная серия детских музыкальных передач Московского радио в 1945–1946 гг. имела сквозную сюжетную рамку: бегущие от страшного великана собираются в кружок, когда им удается временно быть в безопасности, и ведут беседы, поют песни, пока снова не появляется неумолимый людоед и им приходится бежать. В этой канве было больше, чем в содержании отдельных передач, правды времени, правды человека, который не вечен, и правды искусства, которое занято не самообороной, скажем мобилизацией сил на борьбу со злым преследователем. Доверчивое знание, что преследователь неумолим и неодолим, оставляет не горечь отчаяния, а совсем другое настроение: именно то, что великан абсолютно недобр и ему не удастся противостоять, отгораживает его от нас; он берет себе свою долю, зато наша, человеческая остается при нас; он догонит, когда догонит, но пока не догнал, не догнал; тогда минута наша; тогда музыка, песня, слово.
Человек в античности смертный, θνητός. Смерть, θάνατος, наступит на него. Он живет навстречу смерти. Она всё прикроет. Это не значит, что надо против нее вооружаться, скажем пытаться жить дольше. Античная медицина занимала намного больше места в экономии человека, чем теперь: медицина занималась настроениями (меланхолия, холерическое возбуждение подлежали медицине), была философская медицина, прослеживались аналогии между человеческим телом и миром. Но проблемы продления жизни, похоже, не существовало. Жизнь измерялась не длительностью, долгая жизнь не ценилась выше короткой, страх смерти считался позорным. Смерть или жизнь относили к «безразличным» вещам не от равнодушия, когда всё равно, быть или не быть, а потому, что важные цели не давали отвлекаться даже на жизнь–смерть. Важны достоинство, добродетель.
Казалось бы, длительность жизни пригодилась бы для приобретения знания и опыта, нужных для добродетели. Это соображение однако не имело силы. Философия не считалась подготовкой к практике. Философия была та высшая теория, которая и высшая практика. Здесь не надо было ждать итогов. Цель в самом важном смысле шла раньше достижения. Мысль была с самого начала энергией (Аристотель), ни в чем полнее которой человек не мог осуществиться. Казалось бы, опять же, если человек несет важную весть, ему надо дожить до времени, когда он ее донесет. Однако у Сократа перед смертью вовсе не видно спешки скорее передать слушателям то, чем он полон. Он полон счастьем (εὐδαιμονία) философии. Поэтому он не нуждается во времени. Счастье не во времени. Не он, Сократ, принадлежит своему времени, а потому, что он осуществляется в счастливой полноте, время, когда Сократ присутствует в своей полноте, по существу является и назовется временем Сократа. И оттого, что время не хочет быть временем Сократа и убивает Сократа, оно еще необратимее становится временем Сократа, который об этом знает. Убив Сократа, оно так привязало себя к нему, что и будущее тоже теперь никогда не сможет стать таким временем, как если бы Сократа никогда не было. Укоротив ненадолго жизнь Сократа, оно навсегда стало таким, что без Сократа уже неполно. Убийство Сократа означало, что он не уместился во времени, и времени, если бы оно тоже захотело полноты, пришлось бы искать себе место в Сократе.
Мера Сократа, не вмещающаяся в меру времени, для Платона становится мерой философии. Из‑за того, что в диалогах главное лицо Сократ, чья судьба, когда пишет Платон, уже известна, сократовские диалоги такие, что могли бы вестись и собственно ведутся перед лицом смерти, как бы выкупленные жизнью Сократа. Они стало быть такие, что смерть их не остановит. Они ведутся по ту сторону смерти. Во всяком случае, если бы был навязан выбор, продолжать дело ума и умереть или поступиться этим делом и жить, то был бы словно и не выбор: решение у Платона давно принято и о нем заявлено тем, что диалоги «сократовские».
Смерть, высокий порог, продолжает мешать легкому входу в платоновскую философию. По–настоящему в нее может войти только смертный, повернувшийся лицом к смерти. Здесь подразумевается, что философия не одно из занятий человека, а захватывающее полностью; что не добродетель для человека, а человек для нее. Это настолько безусловно и безоговорочно, что не обсуждается среди множества обсуждаемого почти никогда: скучно. Человек с его жизнью — маленькое дело перед истиной. Без этой ясности для Платона и для нас у Платона всё перестало бы быть ясным.
Как после этого говорить о статусе нравственности в античной философии? Чт ов ней выше, этика поднята над метафизикой, как сказал Данте, или наоборот, а Данте, несведущий в этих науках, ошибся (Этьен Жильсон)? Статус нравственности такой: возможно, об истине говорить важнее чем о добродетели, последняя просто закон поведения человека, диктуемый истиной; но именно потому, что важнее служения истине для человека ничего нет и никогда быть не может, этосдля него высшее. «Этос человеку бог» (Гераклит). Истина выше всего, и потому истинствование, требующее всего человеческого достоинства, выше всего. Этим предопределено схождение онтологии и этики в высшей теории (созерцании) как высшей практике.
Главный вопрос для Платона заранее уже решен. Есть цель, есть неотменимый долг, есть — дан в Сократе — пример философствования. Из‑за того, что есть Сократ, и шире, есть философская преемственность, существование мыслящего человека становится таким, как любовь, зачатие, роды. Это захватывающие и неотвратимые вещи. Человек не выбирает, увлечься ему или нет, и тем более не выбирает, родить или не родить, а то, может быть, родить еще не сейчас, а потом. Но и помешать здесь ему уже мало что может, если не помешало ожидание смерти.
Продолжение философии всегда считалось возможным — и действительно возможно — через заражение ученика от учителя. Митрополит Антоний Блюм повторяет изречение древнего монаха, что человек не будет по–настоящему захвачен верой, если не увидит свет иного мира в глазах другого человека. На устной передаче стоит, пока не прерывается, философская школа. Как всякое заражение, заражение философией, похоже, не передается через книгу. Пифагор ввел слово «философия»; он же и запретил записи говоримого на лекции. Платон предупреждал: письмо обманывает. Оно не дает понять суть, возможно, как раз потому, что оно «информативнее» устной речи. Книга и сообщает и разобщает, ложась преградой между нами и мыслью. К школе приобщает, строго говоря, только чтениев смысле преподавания. Мы знаем это на примере самоучек, прочитывающих том за томом энциклопедии. Автодидакт выделяется тем самым из окружающих. Он особенный, не как все; если даже он где‑то служит, он кроме того еще и больше всех знает. Философия на самом деле семейнее, интимнее, чем кажется автодидакту, намного ближе человеку; или, вернее, она самое близкое ему, как настроение, как привязанность, как страсть. Есть состояния, когда не хочется брать в руки книгу. За библиофобией Пифагора не элитарность, не желание замкнуться в кружке избранных, а чуткость к разнице между живым касанием и письмом. Письмо по Аристотелю символ «того, что в звуке», т. е., при аристотелевском понимании символа, неполный обломок целого, которому не хватает для полноты второй, звучащей половины.
Пифагора тревожит не то, что его мудрость попадет в руки непосвященных, а то, что письмо неспособно посвятить во что бы то ни было. Заражает только непосредственное присутствие. Способен ли человек продолжать присутствовать в том, что им написано, — вот где проблема для Пифагора и Платона. Заденет ли философская книга так, как задевает настроение? Или может быть философский текст всегда несет с собой настроение? Считается, что это особенность поэзии, лирики. Присутствует ли в философском тексте человек в его неповторимости?