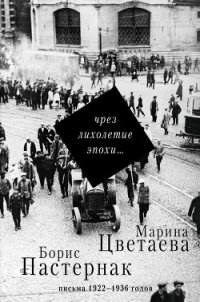Путешествие через эпохи - Кузнецов Борис Григорьевич (версия книг .TXT) 📗
Наука второй половины ХХ века позволяет особенно отчетливо представить новое, хоть и связанное с прошлым, понимание смысла жизни и смысла бытия. Суть данной системы заключена в ее взаимодействии с включающей системой. Но сама включающая система опирается на взаимодействие с ее элементами, на некоторую автономию этих элементов. В современной физике бытие частицы теряет смысл без бытия макроскопических тел, поля, быть может, вселенной. Но бытие этих включающих систем теряет смысл без существования частиц: современная астрофизика с ее квантовыми закономерностями — это другая сторона современной теории элементарных частиц с ее космологическими устремлениями. Смысл жизни неотделим от связи с бесконечностью, развертывающейся и в сторону бесконечно большого, и в сторону малого, в сторону поисков и утверждения бесконечной сложности индивидуального бытия.
Об изъявительном и повелительном наклонениях
и о первой любви
Все беседы с Г. М. Кржижановским в основном относились к классической науке, к использованию классической электродинамики, классической механики, классической электронной теории для достижения общественной гармонии и человеческого счастья. В них говорилось и об ускорении экономического и социального прогресса, которое обещала неклассическая наука. После упомянутых бесед мне захотелось поближе познакомиться с отношением Эйнштейна к тому, что делалось в нашей стране во имя науки и с помощью науки в 20-е годы, в первые годы электрификации, когда реконструктивные сдвиги в производстве были частью восстановительного процесса.
Для очередной поездки на машине времени я выбрал сравнительно краткий период 20-х годов, когда в берлинской квартире Эйнштейна появлялись А. В. Луначарский [181]и Г. В. Чичерин [182]. Для Эйнштейна это было первым моим посещением, для меня нет: я уже посещал его в Принстоне в 40-е и в 50-е годы. После первой беседы скромному русскому физику было разрешено систематически приходить в дом номер пять на Габерландштрассе. Эйнштейн думал, что я помогу его разговорам с русскими посетителями: А. В. Луначарским и Г. В. Чичериным. Я знал, что оба они свободно говорят на европейских языках, но не стал разубеждать Эйнштейна: хотелось как-то оправдать мое участие в беседах. В действительности моя роль оказалась существенной. Я бывал у Эйнштейна, когда к нему приходил Луначарский, а также в другие дни, когда приходил Чичерин. Я передавал Чичерину содержание беседы Эйнштейна с Луначарским, а при новом посещении Луначарского воспроизводил реплики Чичерина, и в результате получалась, хотя и прерываемая длительными интервалами, связная беседа по некоторым сквозным вопросам. В этой квазиобщей беседе я играл роль хора греческой трагедии, повторяющего и комментирующего реплики действующих лиц.
Наиболее запомнившаяся реплика Луначарского была вызвана случайным замечанием об упомянутой уже в этих записках формуле Пуанкаре: мораль — это повелительное наклонение, наука — изъявительное; логического перехода из одного наклонения в другое не может быть. Луначарский был не согласен с Пуанкаре.
Наука, говорил он, влияет на судьбу людей, и чем дальше, тем больше. Как же она может быть отделена от морали? Наука несет с собой добро, а может быть, и зло. Что такое повелительное наклонение, не вытекающее из изъявительного? Это воля тирана, который не исходит из реальных констатаций, из истины, это прихоть тирана, это насилие над естественным ходом вещей. Напротив, повелительное наклонение, вытекающее из изъявительного, деяние, вытекающее из знания, — это свобода… Когда я думаю о современной науке, преобразующей общество, мне вспоминаются строки «Фауста» о деянии как начале бытия. Наука как совокупность представлений — это слово, Логос, мнения, идеи… Они не правили и не правят миром. Но наука на марше, наука как переход, как движение, как процесс — это деятельность людей, это деяние, дело, и она становится силой преобразования мира. И деяние, исходящее из науки, повелительное наклонение, вытекающее из изъявительного, не может не быть выражением свободы.
…Современная наука, — продолжал Луначарский, — с самого начала была опорой свободы. Я давно хотел перечитать исторические труды, посвященные Возрождению и особенно флорентийскому Возрождению, чтобы посмотреть, как динамизм экономического развития, противостоящий традиции и требовавший научного анализа, влиял на политические формы государства и на развитие идей. Мне кажется, что Медичи, в особенности Лоренцо Великолепный, в поисках новых условий развития мануфактур и ремесел искали источники этих условий в свободном творчестве художников и ученых. Козимо и Лоренцо Медичи понимали, что традиция и авторитарность могут сохранить и даже количественно расширить старое, но не могут создать новое.
Я вспомнил разговор с Леонардо да Винчи в 1495 году — его панегирик Лоренцо Великолепному и жалобы на условия научной и художественной деятельности в Милане под властью Сфорца и в Риме под властью Борджиа — и рассказал Эйнштейну и Луначарскому об этом различии, не ссылаясь, разумеется, на Леонардо, а в качестве собственной догадки. Луначарский ответил одной из столь частых для него историко-философских и историко-культурных импровизаций. Это была краткая характеристика тирании как государственного, социально-политического, культурного и психологического явления, ряд портретов, куда входили самые жестокие властители различных эпох. Общая концепция состояла в том, что тирания — это власть, принципиально отказывающаяся от ограничений, связанных с изучением, анализом объективной действительности, поэтому она в своей наиболее полной форме преходяща и, в сущности, иллюзорна. Процесс общественного развития продолжается, движение остается предикатом бытия, новое растет, хотя бы до времени и неявно, и это делает всевластие тирана иллюзорным, а в конце концов новое становится явным и кончается даже иллюзия абсолютной власти. Поэтому тирания «борджианского» типа характерна для периодов, когда процесс научной, технической, экономической и культурной трансформации замедляется, где количественные изменения лишь неявно сопровождаются качественными преобразованиями. Именно так было в Папской области во времена Борджиа. Средиземноморская торговля по-разному отразилась на экономическом, политическом и культурном развитии итальянских городов. Флоренция в наибольшей степени использовала этот импульс для развития ремесла и мануфактуры на основе новой техники, на основе широкого применения новых, динамических принципов механики. Поиски новых законов не были в Риме такими настоятельными, как во Флоренции. Здесь задача состояла в реализации уже известных законов статики, в строительстве мостов, замков, храмов и прежде всего и раньше всего крепостей и осадных сооружений для завоевания итальянских герцогств под власть Ватикана. Я бы сказал, в реализации законов статики, уже известных, качественно неизменных, не требующих усилий и условий для обнаруживания. На этой почве и вырастало то «изъявительное наклонение из повелительного» со своими политическими и моральными последствиями.
Тирания всегда вырастает из того, что Галилей называл ликом Медузы, этим страшным ликом, который подчинял себе человека и заставлял его цепенеть и оставаться неподвижным.
После такого экскурса в XV–XVI века Луначарский довольно долго говорил о глубоком единстве расцвета художественного и научного творчества в 20-е годы и динамизма экономической и научно-технической политики, учитывавшей назревшие, движущиеся, незавершенные, незастывшие тенденции электродинамики как теоретической основы электрификации.
Ответная реплика Эйнштейна была очень пространной — почти лекцией. Если бы ее нужно было озаглавить, то ничего нельзя было бы придумать лучшего, чем название написанной через четверть века и опубликованной в 1949 году статьи Эйнштейна «Почему социализм?».