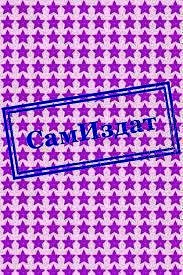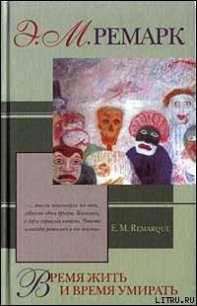С нами Бог - Франк Семен (читаем книги бесплатно .txt) 📗
Отсюда легко возникает убеждение, что христианское догматическое учение об искупительной жертве Христовой есть не что иное, как искажение возвышенного откровения о Боге любви привнесением в него грубого и жестокого первобытного суеверия, заимствованного из первоначального, раннего слоя ветхозаветных религиозных представлений. Известно, что уже более поздние части Ветхого Завета – псалмы и наставления пророков – содержат недвусмысленный, категорический протест против этих первобытных представлений. «Жертву и приношения Ты не восхотел», – говорит псалмист (Пс 40:6). «Ибо я милости хочу, а не жертвы», – говорит Бог у пророка Осии (6:6). Пророчества Исаии начинаются гневным возгласом Бога: «К чему Мне множество жертв ваших?… Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота!..» (Ис 1:11) – и требованием заменить жертвы покаянием, и вся литература пророков не устает повторять это наставление.
Если, однако, несмотря на это преодоление уже в Ветхом Завете первобытных понятий, связанных с жертвоприношением (я оставляю здесь в стороне вопрос, не имело ли и первобытное жертвоприношение какой-либо другой, более глубокой идеи), не только апостолы восприняли страдание и крестную смерть Христа, как жертву для спасения мира и учили, что «Христос… возлюбил нас, и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное» (Еф 5:2), но и сам Христос знал и открыл своим ученикам, что проливаемая им кровь есть «кровь Моя нового завета, за многих изливаемая, во оставление грехов» (Мф 26:28), – то, очевидно, здесь мыслится иное, более осмысленное и возвышенное понятие жертвы. При уяснении этого понятия мы должны руководиться общим самоочевидным методическим правилом, столь часто нарушаемым теми, кто, гордясь своей просвещенностью, не видят в древних, непонятных им идеях ничего, кроме бессмысленного суеверия. В противоположность логически несостоятельной установке обычного «эволюционизма» надо помнить, что из низшего, как такового, никак не может вытекать высшее и что, следовательно, надо не высшую форму объяснить из низшей, а, напротив, низшее понимать как зачаточное и смутное состояние высшего. Если самое возвышенное из всего, что когда-либо открылось человеческому духу, – христианская правда – органически включает в себя идею жертвы, то из этого следует, что в исконно первобытной – неприемлемой для нас в ее исторической форме – идее жертвы должно заключаться зерно некой великой истины.
В понятие жертвы далее в самой примитивной его форме входит признак, что человек отдает Богу нечто ценное самому отдающему, что человек добровольно лишает себя чего-то, терпит ущерб, чтобы тем искупить свою вину или заслужить милость Божию. Этический смысл жертвы – в том, что Богу угоден не дар, а самый акт дарения, которым человек обнаруживает готовность перед лицом Божиим отказаться от своего достояния, добровольно наложить на себя лишение, самоумаление. И этот акт лишения, самоумаления ставится в связь с виной, мыслится как средство оправдаться перед Богом, заслужить прощение вины; в этом состоит смысл искупительной жертвы. Как понять его?
Идея искупления прежде всего предполагает идею вины, и притом не в юридическом смысле, как объективного факта нарушения закона, за что нарушитель несет ответственность, а в смысле моральном, в котором вина дана в самосознании самого виновного и испытывается как нарушение некой объективной ценности или святыни – как зло, порожденное моей волей. Иное название для вины, как она испытывается моральным самосознанием самого виновника, есть грех. Идея греха есть неотъемлемый элемент религиозного сознания: с сознанием святыни неразрывно связано сознание недопустимости действия – для более глубокого и тонкого нравственного восприятия недопустимости даже побуждения или даже желания, – идущего вразрез с святыней, содержащего нечто недолжное. Нарушение святыни и есть грех. Если, как приходилось уже указывать, существо религиозного сознания искажается привнесением в него представлений юридического порядка – представлением об ответственности человека перед чуждой ему, властвующей извне над ним инстанцией, о каре, налагаемой на него по воле этой инстанции и против его собственной воли, – то, с другой стороны, в состав религиозного сознания необходимо входит идея суда человека над самим собой. Понятие вины, суда и кары суть «юридическое» искажение религиозного сознания только, поскольку они мыслятся именно в связи с внешней ответственностью человека перед чуждой ему, властвующей над ним инстанцией; напротив, эти понятия оправданны и необходимы, поскольку они суть категории имманентного морального самосознания. Человек может быть прямо определен как существо, судящее само себя, привлекающее себя к ответственности, винящее и карающее само себя. В этом состоит сознание греховности, вне которого человек есть существо невменяемое, т. е. вообще не есть человек. То, что в новейшую историческую эпоху это сознание начинает ослабляться, что возникают теории, заменяющие идею греха объяснением морального зла из внешних условий (социального порядка, неправильного воспитания и пр.), – это есть один из самых грозных признаков духовного упадка и заболевания человечества. По сравнению с этим даже самая примитивная форма сознания греховности – страх перед карой Божией за нарушение закона – есть признак духовного здоровья, наличия в человеке истинного человеческого начала.
Итак, подлинное сознание греховности состоит в том, что человек судит сам себя, признает и испытывает себя греховным, ответственным за грехи. Это сознание своей греховности обладает самоочевидностью опытной истины, его не могут устранить или облегчить никакие богословские или философские попытки открыть метафизический первоисточник зла или греха в чем-либо ином, кроме самой воли человека; не говоря уже о фактическом неизбежном бессилии таких объяснений, нравственное сознание воспринимает их как морально недопустимые потуги снять с человека бремя ответственности за грех. Нет и не может быть никакого иного объяснения происхождения зла, кроме восприятия его зарождения в моей греховной воле.
Вместе с тем, когда человек там морально судит самого себя, он имеет сознание, что именно в этом имманентном самоосуждении совершается суд Божий, т. е. что осуждающий голос совести есть в человеке голос самого Бога. Только в такой имманентной форме оправданна – и необходима – теономия, подчиненность человека суду и закону Божию. Теономия осуществляется здесь изнутри, через человеческую автономию – через свободный, никем извне не вынуждаемый и именно поэтому неумолимо обязательный, «категорический», как говорил Кант, закон и приговор собственной совести.
Это самосознание греховности трагично, ибо, как таковое, оно совершенно безысходно. Грех, раз совершенный, неотменим и неисправим, как всякое прошлое вообще. Отойдя в прошлое, он вечно в нем пребывает, и никакие силы человека и мира не могут в этом ничего изменить, не могут стереть греха, очистить от него человека, избавить его от мук самоосуждения. Идея вечных адских мук – чудовищная и нелепая, поскольку они мыслятся как кара, наложенная на человеческую душу извне, по приговору беспощадного судьи и властителя мира, – становится понятной из сознания обреченности на неустранимые муки совести и, я думаю, в сущности, и возникла из этого сознания и его выражает. «Вечность» мук есть при этом не их бесконечная длительность во времени – кошмарное, по существу антирелигиозное представление, лишающее вселенское бытие всякого смысла! – а их качество, именно их безысходность, неустранимость.
Нравственно-религиозное сознание испытывает при этом своеобразную, рационально-необъяснимую диалектику. С одной стороны, оно проникнуто мыслью, что даже сам Бог не может мне в этом помочь – либо потому, что осуждающий голос моей совести, который я не могу заставить умолкнуть, и есть осуждение Божие, либо же – поскольку я все же уповаю на прощение Божие – потому, что и это прощение не может мне помочь, если я осуждаю самого себя. И, однако, вопреки этому рационально-безвыходному положению, человек продолжает уповать на избавление и спасение в порядке некоего чуда, и религиозный опыт свидетельствует, что оно фактически возможно. Именно в этой связи возникает непонятная для разума, но совершенно очевидная для нравственного сознания идея искупления вины страданием. Человек сознает, что, совершив грех, он обязан за это пострадать, понести кару. Было бы поверхностно и совершенно ложно пытаться психологически объяснить это сознание как перенесение вовнутрь души, «интровертирование» юридической категории ответственности перед властью, т. е. привычки, что за правонарушением следует кара; моральное самоосуждение человека обладает здесь, как указано, первичной самоочевидностью, совесть нельзя объяснить, как продукт и «сублимацию» страха. Скорее наоборот: моральный суд есть основание и первоисточник юридического понятия суда. Прежде всего, сами муки сознаются как правомерная кара за грех и, тем самым, как кара очистительная, искупляющая. «Жертва Богу – дух сокрушенный». И вместе с тем, человек испытывает сознание, что он должен потерпеть страдания, чтобы ими избавиться от мук совести. В лице этих страданий человек приносит себя самого в жертву Добру и Правде, перед которыми он повинен – т. е. Богу. В этом и состоит истинный смысл искупительной жертвы. Понятие жертвы бессмысленно и безнравственно, поскольку в жертву приносится что-либо иное или кто-либо иной, кроме меня самого; но оно осмысленно и необходимо, поскольку мы, в сознании нашей вины, приносим в жертву себя самих, поскольку жертва есть самопожертвование. Смысл жертвы тесно связан со смыслом страдания вообще, о котором пришлось говорить в прошлой главе. Если страдание вообще есть, как мы знаем, мучительная операция, необходимая для нашего исцеления, для подъема души из ее смутного, порабощенного, тягостного земного состояния к свободе и блаженству ее высшего существа, то жертва есть страдание, искупающее вину, грех. Человек сознает, что грех налагает на него обязанность страдать и что если вообще возможно внутреннее преодоление греха, спасение от угрызений совести – оно возможно только на этом пути добровольного страдания, самоумаления, принесения себя и своего достояния в «жертву» Богу правды и добра. И религиозно-нравственный опыт учит, что на этом пути невозможное действительно становится возможным, что безысходные терзания совести при этом как бы растворяются в елее прощающей и примиряющей божественной любви, постепенно превращаются в тихую, примиренную скорбь и в радостное умиление. Это испытывается как подлинное чудо притока исцеляющих и спасающих благодатных сил.