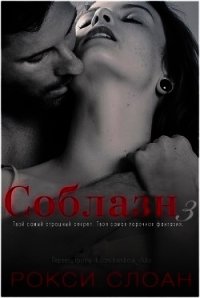Соблазн - Бодрийяр Жан (лучшие бесплатные книги .TXT) 📗
Мы живем в век мягких технологий, генетического и ментального софта. Протезы индустриального века, машины, еще возвращались к телу, чтобы модифицировать его образ — они метаболировались в воображаемом, и этот метаболизм был частью телесного образа. Но когда достигнута уже точка невозвращения в пространстве симуляции, когда протезы просачиваются в анонимную микромолекулярную сердцевину тела, когда они навязывают себя телу в качестве матрицы, сжигая все последующие символические цепи, так что любое возможное тело оказывается лишь своим собственным неизменным повторением, — тогда телу и его истории приходит конец: человеческий индивид отныне не более как раковый метастаз своей базисной формулы.
Разве есть принципиальная разница между клонированием энного количества индивидов из такого-то индивида Х и пролиферацией какой-то одной многократно разделившейся клетки, например раковой? Налицо тесная связь между самим понятием генетического кода и раковой патологией. Код обозначает минимальную формулу, к каковой может быть сведен в своей совокупности человеческий индивид, которому остается только без конца повторять самого себя. Рак обозначает бесконтрольное деление и размножение клетки одного и того же типа без учета органических законов целого. То же при клонировании: продление Тождественного, пролиферация одной-единственной матрицы. Когда-то этому противилось еще половое воспроизводство, сегодня же появилась наконец возможность изолировать генетическую матрицу личности и устранить все дифференциальные превратности, составлявшие алеаторное обаяние индивидов. Их соблазн?
Начав с индустриальных объектов, метастаз захватил сегодня клеточную организацию. Ведь рак на самом деле болезнь, определяющая всю современную патологию, потому что она есть сама форма вирулентности кода: обостренная избыточность одних и тех же сигналов, обостренная избыточность одних и тех же клеток.
Таким образом, клонирование более чем соответствует необратимому предприятию по "растяжению и углублению прозрачности системы для нее самой путем увеличения ее возможностей по саморегулированию и модификации ее информационной экономии" (Керсола).
Всякое влечение подлежит лечению и искоренению. Все внутреннее (системы, функции, органы, сознательные и бессознательные контуры) выводится наружу в форме протезов, образующих вокруг тела идеальный спутниковый корпус, причем само тело становится спутником. Всякое ядро выдирается и запускается в это сателлитное пространство.
Клон — материализация генетической формулы в форме человеческого существа. И ведь на этом дело не остановится. Все тайны тела, пол, тревога, даже неуловимая радость жизни, все, что вы о себе не знаете и знать не желаете, — все будет смодулировано в некий био-feed-back, будет отослано вам в форме «инкорпорированной» цифровой информации. Это бионическая стадия зеркала (Керсола).
Дигитальность Нарцисса вместо Эдипова треугольника. Ипостась искусственного двойника, клон будет отныне вашим ангелом-хранителем, зримой формой вашего бессознательного и плотью от плоти вашей, буквально и без метафор. «Ближним» твоим будет отныне этот клон, похожий на тебя как две капли, так что никогда уже не быть тебе в одиночестве, никогда уже не иметь секретов. "Возлюби ближнего твоего как себя самого" — эта старинная евангельская проблема решена: ближний — ты сам. И тотальная любовь. Тотальное самообольщение.
Массы тоже представляют собой клонический агрегат, работающий от тождественного к тождественному, без обращения к иному. По сути, они не более чем сумма терминалов всех возможных систем — сеть, наполненная цифровыми импульсами, — это и образует массу. Нечувствительные к внешним командам, они составляются в интегральные схемы, открытые для манипуляции (автоманипуляции) и «обольщения» (самообольщения).
В действительности никто больше не знает, как функционирует механизм представительства, ни даже — существует ли еще таковой. При этом все более настоятельной ощущается необходимость рационального осмысления того, что может происходить во вселенной симуляции. Что же, собственно, происходит между отсутствующим, гипотетическим полюсом власти и нейтральным, неуловимым полюсом масс? Ответ: есть кой-какой соблазн, и кое-кто на него клюет.
Но этот соблазн коннотирует лишь некое действие социального, в котором никто уже ничего не понимает, или политического, чья структура давно испарилась. На их месте соблазн очерчивает необъятное белое пятно территории, заполняемой остывающими потоками слов, пятно послушно прогибающейся сети, покрытой смазкой магнитных импульсов. Властью никого больше не проведешь — цепляет то, что завораживает. Никто не клюнет на производство: соблазн — вот, на что попадаются. Нои сам этот соблазн уже абсолютно пустой разговор, одна симуляция понятия. Рассуждения как самих «стратегов» желания масс (Жискар, рекламщики, ведущие, диджеи, human and mental engineers и т. п.), так и «аналитиков» этой стратегии, дискурс, описывающий в терминах соблазна механизм работы социального, политического или того, что от них осталось, настолько же пуст, как и само пространство политического: он просто преломляет его в пустоте. "Средства массовой информации обольщают массы", "массы сами себя обольщают": какое суесловие, как фантастически подобные формулировки принижают понятие соблазна, заглушая его буквальный смысл, очарование и смертоносные чары, ради того чтобы представить в банальном значении социальной смазки или техники релаксированных отношений — сладкая семиургия, мягкая технология. В таком случае соблазн благополучно увязывается с экологией и с общим переходом от стадии жестких энергий к стадии мягких. Сладкая энергия, мягкий соблазн. Социальное посередке.
Пересмотренный и исправленный идеологией желания, этот рассеянный, экстенсивный соблазн ничего общего не имеет с аристократическим соблазном дуально-дуэльных отношений. Психологизация соблазна: результат его опошления с того момента, как над Западом воздвиглась воображаемая фигура желания.
Конечно, не господа вообразили эту фигуру — исторически она была порождением подвластных, сложившись под знаком их освобождения, и провалы революций раз за разом только укрепляли ее. Форма желания запечатляет и скрепляет исторический переход порабощенных от статуса вещи или объекта к статусу субъекта или подданного, но сам по себе этот переход не более как утонченное и глубоко запавшее увековечение строя рабства. Первые проблески субъективности масс на заре современности, на заре революций — первые признаки самоуправляемого рабства субъектов и масс под знаком их собственного желания! Начало большого обольщения: вещью можно просто владеть — субъекта желания можно соблазнить.
Так начала развертываться в социальном и историческом плане эта мягкая стратегия. Массы психологизируются, чтобы быть обольщенными. На них напяливают желание, чтобы отвлечь от него и совратить. Прежде они отчуждались — это когда у них было сознание (мистифицированное!), — сегодня обольщаются, потому как у них есть бессознательное и желание (увы — такое вытесненное и заблудшее!). Прежде они отвлекались от истины истории (революционной) — сегодня отвлекаются от истины собственного желания. Бедные массы, жертвы обольщения и манипулирования! Их заставляли сносить господство грубым насилием — их заставляют принимать его силой соблазна.
Вообще говоря, эта теоретическая галлюцинация желания, эта рассеянная либидинальная психология служит как бы задним планом для повсеместно циркулирующего симулякра соблазна. Сменяя пространство контроля и надзора, она отмечает уязвимость индивидов и масс мягким командам. Примешанная в гомеопатических дозах ко всем социальным и личностным отношениям, соблазнительная тень этого дискурса распласталась сегодня над пустошью социального отношения как такового и самой власти.
В этом смысле наш век — век соблазна. Но речь уже не идет о той форме потенциально всепоглощающей страсти, о той угрозе полной абсорбции, от которой ничто реальное, ни один субъект не застрахованы, о смертоносном отрыве, увлекающем все и вся (быть может, просто реального осталось не так много, чтобы еще отвлекать его куда-то, «совращать» — быть может, и истина неистребима по той простой причине, что ее слишком мало), — речь даже не идет о совращении невинности и добродетели (для этого уже недостаточно ни нравственности, ни извращенности) — сегодня остается лишь обольщение… ради обольщения? "Соблазните меня". "Дайте-ка мне вас соблазнить". Обольщение — то, что остается, когда ставки — все ставки — взяты назад. Уже не насилие над смыслом или его молчаливая экстерминация, но та форма, которая остается у языка, когда ему нечего больше сказать. Уже не головокружительная утрата, но лишь толика удовлетворения, которым носители языка вяло насыщают друг друга в релаксированном социальном отношении. "Соблазните меня". "Дайте-ка мне вас соблазнить".