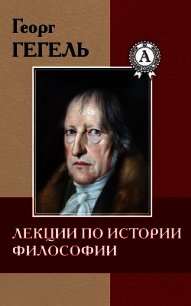Язык философии - Бибихин Владимир Вениаминович (читать бесплатно полные книги .TXT) 📗
Плотин о нем говорит, но через невозможность сказать; говорит «как получится, ὡς οἷόν τε». Его слова однако не гадание, они полнота созерцания, которое по–человечески не может быть более полным, потому что ясно видит, что здесь больше ничего нельзя видеть. Философ говорит, обязан говорить и имеет право говорить потому, что достиг полноты. Полнота достигается в последней ясности невозможности идти дальше, апории, именно из‑за предельной убедительности того, что мы имеем дело с апорией.
Конец «Парменида» кажется манифестом скептицизма: «Скажем же еще и то, что, по–видимому, существует ли единое или не существует, и само оно, и всё другое ему, и по отношению к самим себе, и по отношению ко всему другому всё всесовершенно и существует и не существует, и кажется и не кажется». На деле таково полное предельное философское знание о первом начале, уверенное в том, что полнее знания не будет.
Если бы христианство как имеющее больше света (Откровение), чем философия, открыло ей определение первого начала, можно было бы говорить, что «языческая философия» ушла со сцены, уступив место новому мировоззрению. Победой и философии, и христианства было то, что там, где философия воздержалась от «категорий», христианство тоже воздержалось [38]и дало определение таинственное, непостижимое. Когда Плотин говорит, что ум — сын отца, единого–блага, то сын и отец здесь — несобственные обозначения. В христианской догматике, наоборот, толковать Отца, что делает Августин и вслед за ним некоторые другие, как тезис онтологической триады — лишь вольная и необязательная иллюстрация к тому, какие глубокие смыслы, между прочим, можно при желании извлечь из Троицы. Единый в Трех, Неслиянный и Нераздельный, при том что Каждый из Трех равен другим по достоинству, — эти нарочито непостижимые формулы говорили о хорошей философской школе отцов Церкви. Они знали, что место, будто бы оставленное философией для именования первого начала, в действительности занято полнотой опыта не неспособности, а законченной невозможности что‑либо по–человечески сказать; т. е. что философия в своем молчании перед Началом уже сказала всё, и дальше говорить Богу. Христианское богословие оберегало себя от философии и этим оберегало философию.
В Византии XIV в. от этого принципа как будто бы отошли. На Константинопольском соборе 1351 г. был принят догмат о различении сущности и энергий в Боге. Энергии понимались как нетварные, т. е. отождествлялись с верховным божественным началом. Философски это беспомощно. Паламе за тысячелетие до него возражал Плотин (Против гностиков I): относительно первых простейших начал нельзя говорить, что одно в них существует в возможности, другое в энергии (осуществленности, действительности); они всецело осуществленность, всецело действительность, всецело энергия. В Константинополе была к счастью еще сильна философская школа, не прерывавшаяся от античности и уже знакомая с новой западной схоластикой, с Фомой Аквинским. На многократные и веские философские возражения паламиты–богословы ответили снова, как во всей истории христианской догматики, уходом из области философии. Различение между сущностью и энергией в Боге было названо «неразличаемым». «Неразличаемое различение» — это философский абсурд, но богословски это такое же указание на божественную тайну, как неслиянная нераздельность трех Лиц, немужнее зачатие и воскресение из мертвых. Введение непостижимости («неразличаемое различие») в паламитский догмат о божественной сущности и энергиях было таким же философско–религиозным достижением, как преодоление арианского, по существу неоплатонического онтологического субординационизма в Троице. Три неслиянных и нераздельных Лица не имеют никакого отношения к философии. Их «понятийная дедукция» всегда окажется недоразумением, возвратом к смешению философии и религии, после которого ничего не остается ни от философии, ни от религии — или необязательной схематической иллюстрацией, как августиновское пояснение Троицы через любовь–единение–связь.
То же с софиологией. Претензия на «философски обоснованную» трактовку Софии как обращенности Бога к миру не выдерживает критики: смешно, можно снова сказать с Плотином, будто в простейшем Начале есть аспекты отношения к чему‑то другому. Всё, что истинно о Первоединстве, развернуто в «Пармениде», и философия добавить здесь уже ничего не может. Другое дело, что София — лицо библейской истории, откровение о творении. София есть, софийно создан мир, и сплошное присутствие Софии в творении таинственно. Но философия Софии рискует быть чем‑то вроде объявления Бога–Отца тезисом, Сына антитезисом, Духа Святого синтезом. Богословам кажется, что, беря слово «София» из почтенного контекста, они уже что‑то имеют в руках. Это не совсем так. Мы можем очень много раз повторить это слово, но не обязательно приблизимся к тому, что оно обозначает. Человек произносит слово «Бог», говорит Плотин в трактате «Против гностиков», и это слово как будто бы что‑то обещает. Верьте в Бога, следуйте Богу. Но если вы это сказали и этому учите, то покажите, как Ему следовать. Можно твердить Его имя и оставаться связанным вещами мира, не умея честным, не гностическим (отсекающим) образом развязаться ни с одной из них. Развязывать узлы, которыми связан человек, учит тот терпеливый разбор, то узнавание себя, которое есть философия. Добротная, добросовестная философская работа, добиваясь последней ясности, захватывая всего человека, расплавляя его очистительным огнем, подведет в конечном счете и не может не привести к Богу. Без старательного делания, развязывания узлов, в которых путается среди вещей мира всякий человек, Бог, сколько ни повторяй это имя, останется именем. Мы изложили конец трактата Плотина «Против гностиков».
Нужной ясности катастрофически не хватает так называемому «всеединству». Этим словом как будто бы должна описываться связь частей мира с целым. «Первоединое существует везде, ибо каждый стакан, каждая чашка […] есть какая‑то единица […] Большая единица […] наверху дана в цельном виде, а в отдельных вещах лишь отчасти» [39]. Но единичность чашки или разделяет непостижимость первоединства, или ничего не говорит о нем. В первом случае мы перестаем знать, что такое «всё», если оно состоит из непостижимых единств; во втором случае «всё» оказывается таким же условным названием неименуемого Начала, как и «единство». Сказать ли «всё», «единство», «всеединство» или «ничто», разницы нет. Учение о всеединстве опирается не на онтологию, здесь у него опоры нет, а на богословие, а именно на веру в то, что Бог должен был каким‑то образом позаботиться о мире и не покидать его. «Всеединство» получает таким путем религиозный смысл, но как философское понятие остается, как к нему ни подойти, проблемой.
Философия смотрит в ту же сторону что и вера. Философия не именует собственным именем то, что ее захватило. Вера дерзает и именует, полагаясь на свою способность слышать голос Бога. Она именует то самое, в почитании чего смирилась и не дерзнула произнести имя собственное философия. Дело обстоит вовсе не так, что философия преодолена или тем более отброшена, словно ее можно отбросить. Благодаря философии вера не забудет, что именует неименуемое. Она должна поэтому уметь всегда вернуться к философии. Только вера знает, философия не знает, почему вера начинает, словно в безумии, говорить Богу Ты и называть его по имени. Худшее, что может сделать вера, — это, произведя погром в философии, взять от нее мертвые схемы.
17. Душа и тело.
Когда философия говорит о теле, имеется в виду не медицинское понимание тела как такого, которое можно просветить рентгеновским аппаратом, поместить на койку в клинике, зарегистрировать в книге поступающих или выбывающих. Не заметивший это современный псевдофилософский дискурс о «телесности» остается пустым.
Медицинское тело, которым он оперирует, выделено искусственно, и неясно, кто или что ему соответствует. Во всяком случае, то, что человек считает собой, такому телу не соответствует, и не случайно медицинский подход к телу человека оскорбляет, унижает. Мы принимаем медицинское понимание тела в порядке смирения: знай, кто ты на самом деле, как жалко твое телесное присутствие в мире. Но, смиряясь, больной редко начинает жить по мерке клиники. Конечно, есть люди, травмированные клиникой, изменившиеся от долгого пребывания в больнице, вошедшие своей психикой в рамки медицинского тела. Они поглощены своей болезнью, своим выздоровлением, упражнениями, отдыхом тела, привязаны к его состоянию. Их благополучию это обычно не помогает, как раз наоборот. «Вживание» в свое медицинское тело — случай психической патологии.