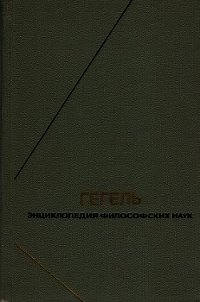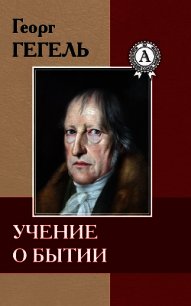Народная религия и христианство - Гегель Георг Вильгельм Фридрих (читаем бесплатно книги полностью .txt) 📗
Дело просвещающего рассудка – очистить объективную религию. Но в такой же мере, в какой его сила не играет значительной роли в улучшении людей, воспитании, которое должно породить возвышенные, глубокие убеждения, благородные чувства, решительную самостоятельность, так и продукт – объективная религия – имеет при этом небольшой вес.
Когда человек созерцает свой труд – великое, возвышенное здание познания бога и познания человеческих обязанностей и природы, это льстит человеческому рассудку. Для этого он, разумеется, достал материал; он соорудил из него здание и все время продолжает украшать его и даже снабжать его каким-нибудь завитком; но чем более многослойной и сложной является конструкция, над которой трудится все человечество, тем меньше принадлежит она каждому в отдельности. Кто только копирует эту всеобщую конструкцию, только из нее выбирает для себя, кто не в себе самом и не из себя самого строит собственный домик, чтобы иметь жилище с крышей и стенами, где он был бы совсем у себя, где он каждый камень если не сделал совершенно заново, то все же положил куда следует, повертел в руках, – тот является начетчиком, тот не жил и не трудился самостоятельно.
Кто только строит себе дворец в подражание тому большому зданию и живет в нем, как Людовик четырнадцатый в Версале, тот едва ли знает все покои своего владения и занимает лишь один очень маленький кабинет, тогда как хозяин дома в своем доставшемся ему от предков домике умеет всегда распорядиться наилучшим образом, рассказать о каждом винтике, каждом шкафчике, об их использовании и их истории («Натан» Лессинга). О большей части того, чем я владею, я могу еще сказать: как, где, почему я учился этому.
Религия должна помочь человеку строить его маленький домик, который он тогда может назвать своим собственным, – но в какой мере она может помочь ему в этом?
Если между чистой религией разума, которая поклоняется богу в духе и в истине и служение ему полагает только в добродетели, и между фетишистской верой, которая верит, что может снискать себе уважение у бога также и через нечто иное, нежели добрая по себе самой воля, существует такое значительное различие, что последняя в противоположность первой не имеет никакой ценности, что обе относятся к совершенно различным видам, и если, таким образом, для человечества очень важно проводить это различие всегда в пользу религии разума и вытеснять фетишистскую веру, то – поскольку всеобщая духовная церковь остается только идеалом разума и поскольку, пожалуй, невозможно, чтобы могла быть учреждена публичная религия, которая исключила бы всякую возможность вывести из себя фетишистскую религию, – спрашивается, каким образом должна быть организована народная религия, чтобы а) негативно – дать как можно меньше повода для начетничества и как можно меньше сохранить привязанность к обычаям и b) позитивно – народ, ведомый к религии разума, приобрел к ней восприимчивость.
Когда в морали в качестве последней вершины нравственности и последнего пункта стремления полагается идея святости, то возражения тех, кто говорит, что такая идея для человека недостижима (что допускают и сами моралисты) и что кроме чистого уважения к закону человеку нужны еще и другие, относящиеся к его чувственности, побудительные причины, – такие возражения доказывают не то, что человек не должен стремиться – пусть даже нужна для этого целая вечность – приблизиться к этой идее, а только то, что при грубости и при мощной тяге к чувственности большинства людей зачастую следовало бы довольствоваться хотя бы тем, чтобы установить законность (а чтобы установить ее, не требуются чисто нравственные побудительные причины, ср. Матф. 19,16 – для этого в них было мало чувства), и что польза была бы уже от простого совершенствования грубой чувственности – по крайней мере развивался бы интерес к чему-то более возвышенному, вместо собственно животных инстинктов развивались бы чувства, которые более подвержены влиянию разума и больше приближаются к моральному, пли что (причем только это, собственно, и возможно), когда громкий крик чувственности несколько заглушен, моральные чувства также пускают ростки, – вообще, уже простая культура была бы выигрышем; они хотят, пожалуй, только одного – (доказать), что на этой земле будто бы невероятно, чтобы человечество или хотя бы отдельный человек обошлись когда-нибудь без внеморальных побудительных причин, – в саму пашу природу вложены такие чувства, которые, хотя и не моральны и возникли не из уважения к закону и таким образом не являются твердыми и прочными, не имеют ценности в себе самих и опять-таки не заслуживают внимания, все же вполне приятны, препятствуют злым наклонностям и поощряют лучшее в человеке, – к такому роду принадлежат все благонравные склонности, сострадание, доброжелательность, дружба и так далее. К этому эмпирическому характеру, который заключен внутри круга склонностей, принадлежит также моральное чувство, которое должно вплести свои нежные волокна во всю ткань;
основной принцип эмпирического характера есть любовь, которая имеет нечто аналогичное с разумом, поскольку любовь, когда она находит себя самое в других людях или, лучше сказать, забывает самое себя, изгоняет себя из своего существования и начинает жить, чувствовать и действовать в других так же, как разум в качестве всеобщего принципа, вновь узнает себя как общезначимый закон, как согражданина интеллигибельного мира в каждом разумном существе! Хотя эмпирический характер человека и возбуждается желанием или нежеланием, однако любовь, хотя это уже патологический принцип поведения, бескорыстна, она делает добро не потому, что она рассчитала, что радости, которые приносят ее действия, являются более чистыми и более длительными, чем радости чувственности или радости, возникающие от удовлетворения какой-либо страсти, – она, таким образом, не принцип утонченного себялюбия, где Я в конце концов всегда есть последняя цель.
Для установления принципов эмпиризм, конечно, совершенно не годится, но когда речь идет о том, как следует воздействовать на людей, то следует принять их такими, каковы они есть, и отыскать все добрые побуждения и чувства, благодаря которым, если даже свобода человека непосредственно и не увеличивается, натура его все же может облагородиться. В случае народной религии особенно важно, чтобы фантазия и сердце не оставались неудовлетворенными, чтобы первая наполнялась великими, чистыми образами, а в последнем пробудилось благодетельное чувство. Чтобы и то и Другое получили правильное направление, для религии, объект которой так велик и так возвышен, тем более важно, что оба могут выбрать себе слишком легкий для них путь или ввести себя в заблуждение, так что или сердце соблазнится ложными представлениями и своим собственным удобством, привяжется к внешним вещам или найдет пищу в низменных, мнимо смиренных чувствах, надеясь тем самым служить богу, или фантазия свяжет как причину и действие вещи, следование которых друг за другом является чисто случайным, и будет надеяться на свое исключительное воздействие на природу. Человек есть столь многосторонняя вещь, что из него можно делать все; у столь разнообразно переплетенной ткани его чувств так много разных концов, что можно цепляться за разные – не за один, так за другой. Поэтому он способен на безрассуднейшие суеверия, на величайшее иерархическое и политическое рабство; задача сплести прекрасные нити природы в одну благородную тесьму должна быть по преимуществу делом народной религии.
Народная религия отличается от частной религии главным образом тем, что цель ее, поскольку она сильно действует на воображение и сердце, вообще вдыхает в душу силу и энтузиазм – дух, без которого немыслима великая, возвышенная добродетель. Совершенствование каждого отдельного человека в соответствии с его характером, наставление в случае столкновения разных обязанностей, особые средства поощрения добродетели, утешение и ободрение каждого отдельного в страданиях его и в несчастных случаях – воспитание всего этого должно быть предоставлено частной религии, а что она не подходит для роли публичной народной религии, явствует из следующего: