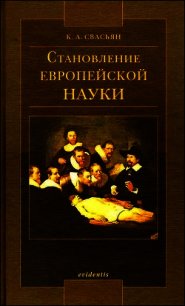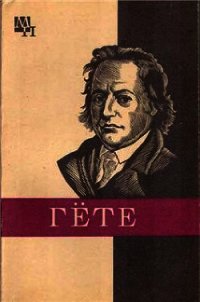ФИЛОСОФИЯ СИМВОЛИЧЕСКИХ ФОРМ Э. КАССИРЕРА - Свасьян Карен Араевич (хороший книги онлайн бесплатно TXT) 📗
Отдавшись желанию, можно было бы бесконечно живописать эту антиномию на неисчерпаемом материале истории культуры. В сущности, возможны самые разнообразные ее характеристики. Все сказанное внятно оформляется в символах сердца и головы, если подразумевать под сердцем всю совокупность индивидуально-артистического, синтетически-художественного и вкладывать в символ головы противоположный комплекс общезначимо-научного, аналитически-логического. Так, например, сталкивая в свете этой символики два столь противоположных феномена, как ветхозаветное видение мира и греческую философию, мы получаем почти адекватную этой символике картину. [109] Греческая философия выглядит нам именно бессердечною (в ветхозаветном смысле слова, где сердцу уделена роль, так сказать, протагониста в драме осмысления человеческих судеб, так что само слово «сердце», по подсчетам филологов, встречается здесь 851 раз). Греческий космос, беспощадно равнодушный к отдельным судьбам, мы могли бы сказать, к проблематике гоголевской «Шинели», находит свое доподлинное соответствие в космологиях греческих мыслителей: от Эмпедокла до Эпикура всюду встречает нас эта, в экзистенциальном смысле слова, беззаботность, бесчеловечность, бессердечность мировосприятия. Здесь, в отмеченной полярности обоих начал, гуманизма и софизма, и встает перед нами проблема универсальности: альтернативное или-или, угрожающее культуре гибелью или, по меньшей мере, справкой об инвалидности, оборачивается порогом, открывающим доступ в зону исключительности.
И здесь же в лейтмотив универсальности врывается каркающее «Nevermore» из бессмертной поэмы Эдгара По. Тяжкий недуг бессилил поражает симпатический нерв культуры. Дальше некуда, дальше — царство невозможности.
Не пытай бессмертия, милая душа -
Обопри на себя лишь посильное. [110]
Душа, парализованная лишь посильным, останется у порога, подобно герою кафковской притчи. Но, кто знает, не прозарит ли ее внезапно острейшая мысль о том, что сама невозможность есть не состояние, а лишь проблема, что если она есть, значит сама она оказалась возможной и значит дело идет не о невозможности возможного, а всего лишь о возможности невозможного и, стало быть, все еще о возможном? Душа не поймет ли, что «жить в идее значит обращаться с невозможным так, как если бы оно было возможным (Гете)? В конце концов, чем рассуждать о том, что возможно и что невозможно, не проще ли, не естественнее ли «броситься в воду и плыть»? О какой невозможности может идти речь сейчас, когда сама действительность на каждом шагу демонстрирует виртуозную технику балансирования на грани возможного, когда самое невероятное становится очевидным, а очевиднейшее просвечивает явными бликами небылиц? И разве сама культура не свершалась доныне под знаком невозможного, вопреки ему? Разве каждая веха ее не воплощает заумный парадокс римского иноверца: «Certum est, quia impossibile est» — «Несомненно, ибо невозможно»? И что остается нам, как не повторить в заключение этот парадокс, окультуривая саму невозможность: «совершенный индивид» культуры невозможен, и именно поэтому бесспорной представляется его несомненность.