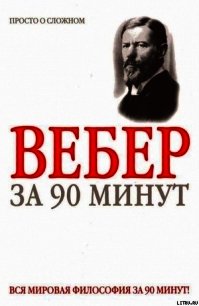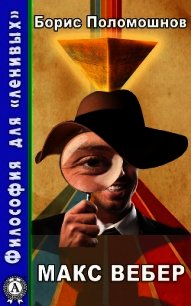Избранные произведения - Вебер Макс (бесплатные онлайн книги читаем полные версии .txt) 📗
Особенно ярко оно проявилось в сфере экономики. Всякое самобытное магическое или мистагогическое влияние духов и богов в интересах отдельных людей сводилось наряду с обещанием долгой жизни, здоровья, почета и продолжения рода, а также лучшей участи в потустороннем мире к богатству как само собой разумеющейся цели; все это мы встречаем в элевсинских мистериях, в финикийской, ведийской религиях, в народной религии Китая, в древнем иудаизме и исламе, в обещаниях благочестивым индуистским н буддийским мирянам. Напротив, сублимированная религия спасения, с одной стороны, и рациональное хозяйство — с другой, все более противостояли друг другу. Рациональное хозяйство есть деловое предприятие. Оно ориентируется на выраженные в деньгах цены, которые складываются в ходе столкновения интересов люден на рынке. Без денежной оценки, следовательно, без такой борьбы невозможна никакая калькуляция. Деньги — самое абстрактное и «безличное» из всего того, что существует в жизни людей. Поэтому чем больше космос современного капиталистического хозяйства следовал своим имманентным закономерностям, тем невозможнее оказывалась какая бы то ни было мыслимая связь с этикой религиозного братства. И она становилась все более невозможной, чем рациональнее и тем самым безличнее становился мир капиталистического хозяйства. Ибо если еще можно было этически регулировать личные отношения между господином и рабом именно потому, что эти отношения были личными, то отношения между меняющимися владельцами ипотек и неизвестными им, также меняющимися, должниками ипотечного банка, — между которыми нет никакой личной связи, регулировать было уже невозможно — во всяком случае, в таком же смысле и с теми же результатами.
Если все-таки попытки такого рода делались, то последствия их были подобны тем, которые мы видели в Китае они служили препятствием развитию формальной рациональности. Ибо формальная и материальная рациональности находились здесь в конфликте. Поэтому именно религии спасения (хотя в них и существовала, как мы видели, тенденция к своеобразной безличной любви в виде неприятия мира) с глубоким недоверием следили за развитием экономических сил, также безличных, хотя и в ином смысле, но именно потому специфически враждебных отношениям религиозного братства. Их отношение к предпринимательской деятельности долгое время характеризовало католическое «Deo placere non potest» [143], и при всей рациональности методики спасения приверженность деньгам и материальным благам вызывала у них опасение, доходящее до ужаса. Связь самих религиозных сообществ, их пропаганды и самоутверждения с экономическими средствами, необходимость приспосабливаться к культурным потребностям масс заставляла их идти на компромиссы, одним примером которых может служить история запрещения взимать проценты. Однако само напряженное отношение к мирской жизни было неодолимым для подлинной этики спасения.
Виртуозная религиозная этика внешне наиболее радикально реагировала на это отношение посредством отказа от владения экономическими благами; избегающий мира аскетизм — посредством запрещения монахам иметь личную собственность, требования обеспечить свое существование собственным трудом и прежде всего посредством ограничения потребностей абсолютно необходимым. При этом парадокс всякой рациональной аскезы, то, что она сама создавала богатство, ею же отрицаемое, служил в равной мере препоной монахам всех времён. Храмы и монастыри повсюду становились средоточием рационального хозяйства. Избегающее мира созерцание принципиально могло выставить лишь одно требование: монах, не имеющий никакой собственности, для которого труд являлся чем-то отвлекающим его от созерцания и концентрации внимания на своем спасении, должен существовать только на то, что предоставляла ему природа и добровольно жертвовали люди: ягоды, коренья и подаяние. Но и здесь не обходилось без компромиссов (например, в Индии). Принципиально и внутренне это противоречие, сохраняя последовательность, разрешалось лишь двумя путями. Одним был парадокс профессиональной этики пуритан, которая в качестве религиозной виртуозности отказалась от универсализма любви, рационализировала всякую деятельность в миру как служение положительной воле Бога в своем последнем смысле совершенно непонятной, но единственно в таком аспекте познаваемой, и тем самым приняла как подтверждение обладания божественным милосердием также экономический закон, отвергаемый вместе со всем миром как рукотворный и испорченный, в качестве угодного Богу материала для выполнения долга. Это было, по существу, принципиальным отказом от веры в спасение как цели, достижимой для людей и для каждого человека в отдельности, и заменой ее надеждой на милосердие Божие, даруемое без осознаваемой причины и всегда только в данном частном случае. Такое воззрение, не основанное на братстве, по существу уже не было подлинной «религией спасения». Та знала только превращение чувства братства в «благостность», полностью отражавшую внемирскую любовь мистика, вообще не интересующегося человеком, которому и ради которого он приносит жертву, ни о чем не спрашивающего, в конечном счете нисколько в этом человеке не заинтересованного, отдающего каждому, кто случайно попадается ему на пути, и только потому, что он встретился ему на пути, рубашку, если он попросит верхнюю одежду, — таков своеобразный уход от мира в форме жертвенности как таковой, безразличной к самому объекту жертвенности, или, словами Бодлера: «ради святой проституции души».
Столь же острой должна была стать для последовательной этики братства непримиримость по отношению к политическому устройству мира. Для магической религии и религии, в которой боги играли функциональную роль, эта проблема не существовала. Древний бог войны и бог, гарантировавший правовой порядок, выполняли определенные функции и защищали бесспорное обладание повседневными благами. Местного, племенного или имперского бога интересовали только дела почитавших его союзов. Он боролся с другими подобными ему богами, как боролась и сама община, именно в борьбе подтверждая свое могущество. Упомянутая проблема возникла лишь тогда, когда эти границы были преодолены универсальными религиями, следовательно, учением о едином Боге, и полностью там, где этот Бог стал Богом «любви», — в религии спасения основой для этого служило требование всеобщего братства. И здесь, так же как в экономической сфере, непримиримость проявлялась тем сильнее, чем рациональнее было политическое устройство. Бюрократический аппарат государства и осуществляющий его функции рациональный homo politicus (как и homo oeconomicus) выполняют доверенные им дела и налагают наказания за нарушения законов, причем именно в том случае, если они следуют идеальному смыслу насильственно установленных государством рациональных правил, чисто деловым образом («невзирая на лица», «sine ira et studio» [144]), без ненависти, а потому и без любви. В силу безличности своих функций он в важных моментах также менее подвержен материальной этизации (хотя, казалось бы, должно быть наоборот), чем те, кто следует правилам патриархального порядка, основанным на личных обязанностях и конкретном значении отдельного случая, то есть именно «взирая на лица». Ибо весь процесс действия внутриполитических функций государственного аппарата в области права и управления в конечном счете всегда регулируется, несмотря на какую бы то ни было «социальную политику», прагматическими, объективными государственными соображениями: абсолютной (для универсальной религии спасения совершенно бессмысленной) самоцелью сохранить — или преобразовать — внутреннее и внешнее разделение власти. Это прежде всего относилось и относится к внешней политике. Однако обращение к насилию и средствам принуждения не только извне, но и внутри своих границ свойственно каждому политическому союзу. Более того, именно это и делает его политическим союзом, по нашей терминологии. «Государство» является таким союзом, который обладает монополией на легитимное насилие — иначе определить его нельзя. Заповеди Нагорной проповеди «Не противься злу» он противопоставляет: «Ты должен содействовать осуществлению права даже силой и сам ответишь за неправовые действия». Там, где нет этого, нет и «государства», существует лишь пацифистский «анархизм». Применение насилия и угроза им ввиду неизбежной прагматичности всякого действия порождают новое применение насилия. При этом государственные соображения следуют как вне, так и внутри границ своей собственной закономерности. Совершенно очевидно, что успех применения насилия или угрозы его применения зависит в конечном счете от соотношения сил, а не от этического «права», даже если можно было бы выявить его объективные критерии. Полная «уверенность в своей правоте» противостоящих друг другу групп или носителей власти, типичная именно для рационального государства (в отличие от непосредственного природного героизма), должна казаться в каждой последовательной религиозной рационализации жалким подражанием этике и привнесением имени Божия. в политическую насильственную борьбу, по сравнению с которым полное исключение требований этики из политической жизни представляется более чистым и честным. Политика является для такой религиозности тем более чуждой братской любви, чем она «объективнее», расчетливее и свободнее от страстей, чувств, гнева и любви.