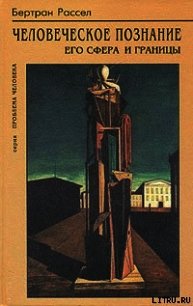Человеческое, слишком человеческое - Ницше Фридрих Вильгельм (книги онлайн полные версии .TXT) 📗
Моя утопия. При лучшем общественном строе тяжелый труд и жизненная нужда должны будут выпадать на долю тех, кто менее всего страдает от этого, т. е. на долю самых тупых людей, и эта пропорция должна будет прогрессивно распространяться на всех, вплоть до того, кто сильнее всего ощущает высшие и самые утонченные роды страдания и потому продолжает страдать даже при величайшем облегчении жизни.
Безумие в учении о перевороте. Существуют политические и социальные фантазии, которые пламенно и красноречиво призывают к перевороту всего общественного порядка, исходя из веры, что тогда тотчас же как бы сам собой воздвигнется великолепнейший храм прекрасной человечности. В этой опасной мечте слышен еще отзвук суеверия Руссо, которое верит в чудесную первичную, но как бы засыпанную посторонними примесями благость человеческой природы и приписывает всю вину этой непроявленности учреждениям культуры — обществу, государству, воспитанию. К сожалению, из исторического опыта известно, что всякий такой переворот снова воскрешает самые дикие энергии — давно погребенные ужасы и необузданности отдаленнейших эпох; что, следовательно, переворот хотя и может быть источником силы в ослабевшем человечестве, но никогда не бывает гармонизатором, строителем, художником, завершителем человеческой природы. — Не умеренная натура Вольтера, склонная к упорядочению, устроению, реформе, а страстные безумия и полуобманы Руссо пробудили оптимистический дух революции, против которого я восклицаю: «Ecrasez l'infame!» Этим духом надолго был изгнан дух просвещения и прогрессивного развития; подумаем — каждый про себя, — можно ли снова вызвать его к жизни!
Мера. Полная решительность в мышлении и исследовании, т. е. свободомыслие, став свойством характера, делает умеренным в действовании: ибо она ослабляет алчность, привлекает к себе много наличной энергии, направляя ее на духовные цели, и обнаруживает малую полезность или бесполезность и опасность всех внезапных перемен.
Воскресение духа. На одре политической болезни народ обыкновенно обновляет себя и вновь приобретает свой дух, который он постепенно утратил в искании и утверждении своего могущества. Культура обязана высшими своими плодами политически ослабленным эпохам.
Новые мнения в старом доме. За переворотом мнений не тотчас следует переворот учреждений; напротив, новые мнения еще долго живут в опустевшем и неуютном доме своих предшественников и даже сохраняют его из нужды в жилище.
Школьное дело. Школьное дело будет в крупных государствах в лучшем случае посредственным, по той же причине, по которой в больших кухнях пища изготовляется в лучшем случае посредственно.
Невинная коррупция. Во всех учреждениях, в которые не проникает свежий воздух общественной критики, вырастает, подобно грибу, невинная коррупция (так, например, в ученых корпорациях и сенатах).
Ученые в качестве политиков. На долю ученых, которые становятся политиками, выпадает обыкновенно комическая роль быть чистой совестью политики.
Волк, спрятанный за овцой. Почти каждый политик при известных обстоятельствах настолько нуждается в честном человеке, что он, подобно голодному волку, врывается в овчарню, — но не для того, чтобы пожрать похищенного барана, а для того, чтобы спрятаться за его мягкой спиной.
Эпохи счастья. Счастливый век совершенно невозможен потому, что люди хотят только желать его, но не хотят его иметь, и каждый отдельный человек, когда на его долю выпадают счастливые дни, прямо-таки научается молиться о беспокойстве и беде. Судьба людей устроена так, что они могут иметь счастливые мгновения — и всякая жизнь имеет таковые, — но не счастливые эпохи. Тем не менее последние сохранятся в фантазии человека в виде мечты о том, что «лежит за горами»; это есть наследие праотцев, ибо понятие счастливого века с древнейших времен заимствовалось, очевидно, из того состояния, когда человек, после чудовищных напряжений на войне и охоте, предавался покою, протягивал свои члены и слышал над собой веяние крыльев сна. Человек рассуждает ошибочно, когда, в силу такой старой привычки, он представляет себе, что и теперь, после целых эпох нужды и труда, он может с соответствующей интенсивностью и продолжительностью вкусить это состояние счастья.
Религия и правительство. Пока государство, или, говоря точнее, — правительство, рассматривает себя как опекуна несовершеннолетней толпы и в ее интересах обсуждает вопрос, нужно ли сохранить или устранить религию, — до тех пор он, вероятно, будет всегда решаться в пользу сохранения религии. Ибо религия удовлетворяет душу отдельной личности в случае потери, нужды, ужаса, недоверия, т. е. там, где правительство чувствует себя бессильным сделать что-либо непосредственно для облегчения душевных страданий частного лица; и даже при общих, неизбежных и ближайшим образом неустранимых бедствиях (при голоде, денежных кризисах, войнах) религия внушает толпе спокойное, выжидательное, доверчивое поведение. Всюду, где необходимые или случайные недостатки государственного управления или опасные последствия династических интересов будут обнаруживаться проницательным людям и приводить их в строптивое настроение, — непроницательные будут видеть перст Божий и покорно подчиняться велениям свыше (понятие, в котором обыкновенно сливаются божественные и человеческие порядки управления); и этим обеспечивается внутренний гражданский мир и непрерывность развития. Сила, которая лежит в единстве народного сознания, в одинаковых мнениях и общих целях, охраняется и скрепляется религией, за исключением тех редких случаев, когда духовенство не может сойтись в цене с государственной властью и вступает в борьбу с ней. Но обыкновенно государство умеет расположить в свою пользу священников, потому что оно нуждается в их интимнейшем и сокровенном воспитании душ и умеет ценить служителей, которые по внешности преследуют совершенно иные интересы. Без содействия духовенства еще и теперь никакая власть не может стать «легитимной», как это понял Наполеон. — Таким образом, абсолютное опекающее правительство и тщательное сохранение религии необходимо идут рука об руку. При этом надо предполагать, что правящие лица и классы просвещены относительно пользы, которую приносит им религия, и, таким образом, в известной мере чувствуют себя выше религии, поскольку они пользуются ею как средством; поэтому здесь берет свое начало свободомыслие. — Но как обстоит дело, когда начинает пробиваться то совершенно иное понимание правительства, которое провозглашается в демократических государствах? Когда в правительстве видят не что иное, как орудие народной воли, не какие-либо «верхи» по сравнению с «низами», а исключительно функцию единственного суверена, народа? Здесь правительство может занять в отношении религии ту же самую позицию, что и народ; всякое распространение просвещения должно будет находить отзвук в представителях народа, использование и эксплуатация религиозных сил и утешений окажутся уже не столь легко возможными (разве только в том случае, если могущественные вожди партий будут некоторое время иметь влияние, аналогичное влиянию просвещенного деспотизма). Но если государство уже не смеет извлекать пользы из самой религии или народ имеет слишком разнообразные понятия о религиозных вопросах, так что он уже не может позволить правительству никакого определенного однообразного способа действий в религиозных мероприятиях, — то выходом из этого неизбежно явится то, что религия будет рассматриваться как частное дело и ответственность за нее будет переложена на совесть и привычку каждого отдельного человека. Результатом этого прежде всего окажется кажущееся усиление религиозного чувства, так как теперь выступят и до последних пределов разойдутся скрытые и подавленные движения этого чувства, которым государство непроизвольно или намеренно не давало простора; позднее обнаруживается, что религия задавлена сектами и что множество драконовых зубов было посеяно в тот момент, когда религия была превращена в частное дело. Наличие спора, враждебное обнажение всех слабостей религиозных исповеданий приводит к тому, что остается лишь один выход: все лучшие и более одаренные люди должны признать безверие своим «частным делом» — и этот образ мыслей получает отныне перевес и в умах господствующих лиц и, почти против их воли, придает их мероприятиям характер, враждебный религии. Как только это наступает, настроение людей, еще руководимых верой, которые прежде обоготворяли государство, как некую полусвятыню или подлинную святыню, сменяется настроением, решительно враждебным государству; они выслеживают мероприятия правительства, стараются задержать их, встать им поперек пути, по возможности тревожить правительство, и пылом своей борьбы внушают противным, неверующим партиям почти фанатическое увлечение государством; и этому втайне еще содействует то, что в этих кругах, со времени отказа от религии, умы еще ощущают пустоту и предварительно пытаются найти возмещение и своего рода заполнение в преданности государству. После этой, быть может, весьма длительной переходной борьбы решается, наконец, достаточно ли еще сильны религиозные партии, чтобы возвратить старое состояние и повернуть назад колесо, — в таком случае государством неизбежно овладевает просвещенный деспотизм (быть может, менее просвещенный и более боязливый, чем прежде), — или же побеждают безрелигиозные партии и в течение нескольких поколений препятствуют преемственному распространению враждебного направления, например, с помощью школ и воспитания, и, наконец, делают его совершенно невозможным. Но затем и у них слабеет упомянутое увлечение государством; все яснее становится, что вместе с религиозным обоготворением, для которого государство было таинством и сверхмировым созданием, потрясено и почтительное, основанное на авторитете, отношение к нему. Отныне отдельные лица интересуются им, лишь поскольку оно может быть им полезно или вредно, и всеми силами теснятся к нему, чтобы приобрести влияние на него. Но это соперничество вскоре становится слишком велико, люди и партии меняются слишком быстро, слишком яростно сбрасывают друг друга с горы, как только они достигли ее вершины. Всем мероприятиям, которые проводит правительство, недостает залога длительности; начинают избегать предприятий, которые десятилетия и столетия должны тихо произрастать, чтобы принести зрелые плоды. Никто не чувствует иного обязательства в отношении закона, как только покориться на мгновение власти, которая внесла этот закон; но тотчас же употребляются усилия, чтобы взорвать ее новой властью, новообразованным большинством. В конце концов это можно высказать с уверенностью — недоверие ко всякому управлению, уяснение бесполезности и изнурительности таких недолговечных распрей влечет людей к совершенно новому решению: к отмене понятия государства, к устранению противоположности между «частным» и «публичным». Частные общества шаг за шагом вовлекают в свою сферу государственные дела: даже самый неподатливый остаток, который сохранится от прежней работы правительства (например, деятельность, охраняющая частных лиц от частных же лиц), в конце концов будет также выполняться частными предприятиями. Пренебрежение к государству, упадок и смерть государства, разнуздание частного лица (я остерегаюсь сказать: индивида) есть последствие демократического понятия государства; в этом его миссия. Если оно исполнило свою задачу — которая, как все человеческое, несет в своем лоне много мудрого и много неразумного, — если все возвратные припадки старой болезни преодолены, то раскрывается новая страница в книге сказок человечества, — страница, на которой можно будет прочитать весьма диковинные истории, а может быть, и кое-что хорошее. — Чтобы еще раз коротко повторить все вышесказанное: интерес опекающего правительства и интерес религии идут рука об руку, так что, когда начинает отмирать последняя, потрясается и основа государства. Вера в божественный порядок политических дел, в таинство, которым овеяно существование государства, имеет религиозное происхождение; если религия исчезнет, то государство неизбежно потеряет свое покрывало Изиды и не будет возбуждать благоговения. Суверенность народа, рассматриваемая вблизи, содействует тому, чтобы рассеять даже последнее очарование и суеверие в области этих чувств; современная демократия есть историческая форма падения государства. — Горизонты, которые открываются в результате этого несомненного падения, однако, не во всех отношениях могут быть названы печальными: рассудительность и себялюбие людей развиты в них лучше всех прочих их свойств; если государство уже не удовлетворяет запросам этих сил, то менее всего наступит хаос, а скорее еще более целесообразное учреждение, чем государство, одержит победу над государством. Человечество уже пережило смерть некоторых организованных сил — как, например, родовой общины, которая в течение тысячелетий была более могущественна, чем семья, и даже властвовала и управляла задолго до возникновения последней. Мы сами видим, как столь значительная правовая и социальная идея семьи, которая некогда господствовала всюду в пределах римской культуры, становится все слабее и бессильнее. Так и позднейшее поколение будет видеть, как государство в отдельных местах земли все более теряет свое значение — представление, которое многие современные люди едва могут помыслить без страха и отвращения. Активно содействовать распространению и осуществлению этого представления есть, правда, дело иное: нужно иметь весьма самоуверенное мнение о своем уме и очень плохо понимать историю, чтобы уже теперь приложить руку к плугу, — тогда как еще никто не может указать семян, которые были посеяны на взрытой почве. Итак, доверимся «рассудительности и себялюбию людей» и будем надеяться, что государство теперь еще устоит добрый промежуток времени и что разрушительные попытки слишком ревностных и поспешных полуневежд будут отвергнуты!