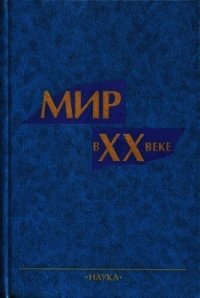Истоки тоталитаризма - Арендт Ханна (читать книги бесплатно полностью без регистрации сокращений .txt) 📗
Иностранные инвестиции, экспорт капитала, возникшие в качестве чрезвычайных мер, становились постоянной чертой всех экономических систем, как только попадали под защиту экспорта мощи. Империалистическое понимание экспансии, согласно которому она есть сама по себе цель, а не временное средство, появилось в политическом мышлении после того, как стало очевидным, что одной из важнейших постоянных функций национального государства станет расширение сферы могущества. Стоящие на службе государства распорядители насилия скоро образовали внутри государства новый класс, и, хотя деятельность их протекала вдали от родины, они оказывали значительное влияние и на политическую жизнь метрополии. Поскольку они были не кем иным, как функционерами от насилия, и мыслить они могли только в терминах политики силы, они были первыми, кто со своих классовых позиций и исходя из своего повседневного опыта провозгласил, что могущество есть сущность всякой политической структуры.
Новым в этой политической философии империализма было не то, что она отводила такое преимущественное место насилию, и не открытие, что сила является одной из основополагающих политических реальностей. Насилие всегда было ultima ratio в политическом действии, и могущество всегда являлось наглядным выражением господства и управления. Но никогда ни то, ни другое не выступало осознанной целью политической власти или конечной задачей какого-то определенного политического курса. Ибо мощь, предоставленная самой себе, не достигает ничего, кроме еще большей мощи, а насилие, осуществляемое во имя достижения этой мощи (а не во имя закона), превращается в разрушительный принцип, продолжающий действовать до тех пор, пока не останется ничего, что уже не подверглось его воздействию.
Это противоречие, неизбежное для любой вытекающей отсюда политики силы, приобретает, однако, видимость осмысленности, если поместить его в контекст якобы нескончаемого процесса, не имеющего иной цели, кроме самого себя. В этом случае действительно бессмысленно ставить вопрос о пределах достигнутого, и могущество может представляться не имеющим конца, самообеспечиваемым двигателем любого политического действия, подобным мифическому накоплению денег, где деньги якобы рождают деньги. Доктрина неограниченной экспансии, которая одна только и может осуществить мечту о неограниченном накоплении капитала, ведет к бесцельному накоплению могущества, делает почти невозможным создание новых политических образований, что до наступления эры империализма всегда было результатом завоеваний. На деле ее логическим следствием является разрушение любых живых сообществ — как у побежденных народов, так и у народа метрополии. Ибо любая политическая структура, старая или новая, будучи предоставлена самой себе, вырабатывает стабилизирующие силы, стоящие на пути непрерывного преобразования и расширения. Поэтому все политические образования представляются временными препятствиями, если глядеть на них как на часть бесконечного потока возрастающей мощи.
Если распорядители постоянно растущей мощи в прошлую эпоху умеренного империализма даже и не пытались поглотить побежденные территории и сохраняли существовавшие отсталые политические сообщества в виде опустошенных развалин ушедшей жизни, их тоталитарные последователи разоряли и уничтожали все политически устойчивые структуры: и свои собственные, и принадлежащие другим народам. Голый экспорт насилия превращал слуг в господ, не наделяя их при этом господской прерогативой — создавать нечто новое. Монополистическая концентрация и громадное скопление средств насилия в метрополии превращали слуг в активную разрушительную силу, пока в конце концов тоталитарная экспансия не начинала разрушать государство и нацию.
Власть и могущество становились существом политического действия и помещались в центр политической мысли, лишь только они отделялись от политического сообщества и переставали ему служить. Надо признать, что в основе этого лежал экономический фактор. Но получившееся в результате превращение власти в единственное содержание политики, а экспансии — в ее единственную цель едва ли было бы встречено с таким всеобщим одобрением, а последовавшее за этим разрушение политических структур государства — со столь незначительной оппозицией, если бы это не отвечало полностью скрытым желаниям и тайным убеждениям экономически и социально господствующих классов. Буржуазия, так долго отстранявшаяся от управления и по самой сути национального государства, и в результате собственного отсутствия интереса к общественным делам, была политически эмансипирована империализмом.
Империализм следует считать не столько последней стадией капитализма, сколько первой стадией политического господства буржуазии. Хорошо известно, насколько мало имущие классы стремились к участию в управлении, насколько легко они удовлетворялись любой формой государства, которой можно было бы доверить защиту прав собственности. На деле государство было для них лишь хорошо организованной полицейской силой. Занятным следствием этой ложной скромности было, однако, то, что весь класс буржуазии оставался вне политической системы; буржуа были сначала частными лицами, а уж затем подданными монархии или гражданами республики. Этот акцент на своем частном статусе и занятость прежде всего деланием денег выработали определенные стереотипы поведения, запечатленные в пословицах типа: «Нет ничего успешнее успеха», «Сила есть право», «Право — это польза» и т. д., которые неизбежно появляются в обществе, состоящем из конкурентов.
Когда в эпоху империализма деловые люди стали политиками и получили признание как государственные деятели, а государственных деятелей стали признавать всерьез только при условии употребления ими языка преуспевших бизнесменов и умения «мыслить континентами», эти частные навыки и приемы постепенно превратились в правила и принципы ведения общественных дел. В этом процессе переоценки ценностей, начавшемся в конце прошлого столетия и продолжающемся до сих пор, важным моментом было то, что начался он с приложения буржуазных взглядов к внешним делам, а уж затем последовало их распространение на внутреннюю политику. Поэтому в государствах, где он происходил, люди не сразу осознали, что господствующая в частной жизни необузданность, против которой общественные органы всегда должны были защищать и себя, и отдельных граждан, вот-вот будет возведена в ранг одного из публично признанных принципов политики.
Примечательно, что современные почитатели власти и могущества полностью вторят философии единственного великого мыслителя, когда-либо пытавшегося вывести общественное благо из частных интересов, который также во имя блага частных лиц разработал теорию «государства всеобщего благоденствия», чьей основой и конечной целью была концентрация власти. Фактически Гоббс является единственным великим философом, которого можно по праву считать исключительно буржуазным, пусть даже его принципы в течение долгого времени не признавались буржуазией. В «Левиафане» [305] изложена единственная политическая теория, где государство основывается не на каком-либо конституирующем законе — будь то священный закон, естественное право или общественный договор, — что определял бы соответствие или несоответствие личного интереса общественным установлениям, а на самих индивидуальных интересах, когда «частный интерес есть то же самое, что и общий». [306]
Едва ли найдется хоть один буржуазный моральный принцип, который не был бы предвосхищен не знающей себе равных, блистательной логикой Гоббса. Он дает почти полный портрет не человека вообще, а буржуазного человека, анализ, который не устарел и не был превзойден за 300 лет. «Рассуждение… есть не что иное, как Подсчитывание»; «(слова) о свободном Субъекте, о свободной Воле… не имеют смысла, то есть (являют собой) Абсурд». Существо без разума, без способности знать истину и без свободной воли, т. е. без способности быть ответственным, человек по сути своей есть функция общества и поэтому оценивается в соответствии со своей «стоимостью или ценностью…своей ценой, то есть тем, сколько можно дать за пользование его силой». Цена эта постоянно назначается и переназначается обществом, «оценкой других», в зависимости от закона спроса и предложения.