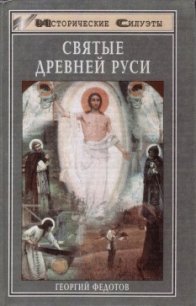Судьба и грехи России - Федотов Георгий Петрович (бесплатные книги полный формат txt) 📗
==155
тно-коммунистического, а скорее публичного права. Как ни странно, но освобождение крестьян нанесло первый удар монархическому чувству крестьянства. Оно же положило начало разложению тех духовных основ, на которых держалась старая мужицкая верность.
Со времени эмансипации медленно, но неизменно начинает крошиться тот гранитный массив, на котором стояла Империя. Пока сила инерции держала могучий комплекс консервативных чувств в душе крестьянина, расшатанность и разброд среди правящих классов были не опасны. «Россия управляется случаем и держится силою тяжести», — заметил один умный дипломат при петербургском дворе начала XIX века. 19 февраля вывело страну из равновесия. Начался процесс брожения, не прекращающийся до дней революции. Крестьянство расползалось по лицу России в поисках земли и заработков. Постоянное падение сельского хозяйства обостряло извечный голод по земле. Освобождение создавало прецедент для черного передела. Борьба за землю сталкивала крестьянство с официальной Россией, которая держалась лишь именем царя. К ней не было уважения, а с ослаблением режима убывал и страх. Школа, город, казарма, железная дорога стихийно разлагали основы крестьянского мировоззрения. На поверхности было незаметно: мужик не читал, не рассуждал. Но он терял веру, уходил в себя, хитрил и ждал.
Думается, что огромная разница восприятии крестьянской стихии у Тургенева и Некрасова, с одной стороны, и Чехова, с другой, связана не только с изменившимся сознанием интеллигенции, но и с эволюцией самого крестьянства.Комплекс благоговейных чувств рассыпался. Остался практический материализм последовательное недоверие. Это еще не нигилизм, но начало духовного омертвения. Их всех социальных инстинктов болезненно разбухает инстинкт зависти,
Несмотря на полвека, протекшие со дня освобождения, реминисценциями рабства была проникнута вся русская жизнь. Есть две мерки, два свода приличий для господ и для простонародья. При официальном гражданском равенстве в суде и управлении — какая разница в языке, в обращении! В участке околоточный рассыпается в любезностях перед дворянином и гонит в шею — совсем не фигурально — мужика. Мужик не обижается на «ты», на грубую брань, но уже с неудовольствием переносит побои. Он возмущается, собственно, не грубостью, которой пропитан и его собственный быт, но бытовым неравенством. С ним он встречается на каждом шагу. в приемных канцелярий, на железной дороге — особенно в казарме. Это неравенство оскорбляет его потому, что общественная иерархия лишена в его глазах благообразия. Быт
==156
господ, их идеал красоты и жизни для него отвратителен. Вот почему эти мелкие уколы, от которых постоянно страдает его чувство достоинства (а в нем много самого подлинного, аристократического достоинства!), будят в нем темные воспоминания. И поныне еще в русских деревнях живы дряхлые старцы, которые помнят время рабства. И не из книг, а по устным преданиям повторяется злая повесть о том, «как нас на собак меняли» или «как травили медведями наших детей». Народ еще не забыл и не простил старых обид, оживляемых новыми ранами.
Переживание крепостнических навыков среди правящих классов, не замечавших сдвига в народной душе или думавших справиться с ними классической розгой, являлось при этих условиях серьезной угрозой. И вот — уже в XX столетии — наступает пора, когда мужик ощущает губернаторскую порку как оскорбление и думает о мести. В этот момент он впервые становится восприимчив к революционной пропаганде.
Здесь происходит наконец долгожданная встреча народа и интеллигенции. Доселе все ее героические усилия пробить стену народного непонимания оканчивались неудачей, для нее трагической. Десятки лет народ видел своих людей в жандармах и сыщиках, ловивших социалистов, и отвращался от последних с религиозным ужасом. Социальное отчуждение питалось дворянским происхождением и стилем интеллигенции. Перед этим бледнеет даже чуждость проповедуемой, антимонархической, доктрины. Крестьянин видел перед собою непонятное, беспомощное существо, которое претендовало учить его, но вызывало его презрение. Оно было по-господски одето, говорило барским языком и хотя чем-то, несомненно, отличалось от настоящих господ, но для народа не было возможности входить в разбирательство оттенков во вражеском стане. Интеллигент всегда был для мужика барином, пока в один прекрасный день не был перекрещен в буржуя.
Разумеется, за всеми частными поводами для недоброжелательства зияла все та же пропасть, разверзшаяся с той стороны, немецкой, безбожной, едва ли не поганой. Барину-крепостнику, принципиальному консерватору, было даже легче пробиться к мужичкову пониманию, чем революционеру. Бог и царь создавали общую почву — до конца прошлого столетия. Конечно, мужик не верил в искренность барского монархизма, подозревая в нем обманные и захватнические поползновения. Но просветителей-радикалов он окончательно не понимал.
В японскую войну завершился распад монархической, отчасти религиозной идеи народа. На мгновение интеллигенция нашла в крестьянстве себе союзника. «Земля и во-
==157
ля» соединяла их в двусмысленном компромиссе: одному земля, другому воля. Но вековое недоверие не было изжито. На место разрушенных богов в народной душе не встали новые. Народ вступил в полосу своего нигилизма, еще неизжитого. Волей-неволей народ передоверял интеллигенции свой политический голос: трудовикам, эсерам, даже эсдекам. Но, подозревая обман, держал камень за пазухой.
В реакционной пропаганде роль посредника между интеллигенцией и народом достается рабочему. Молодой численно, слабый класс, пролетарий сыграл в судьбах России огромную, хотя чисто отрицательную роль. Его значение соответствует значению города в крестьянской стране. Город всегда ведет деревню, и удельный вес горожанина может в десять раз превосходить удельный вес сельского обывателя. У нас пролетариат еще не порвал связи с деревней, и как ни свысока относился крестьянин к фабричному, он поневоле заимствовал от него то, чего не стал бы и слушать от интеллигента. Почему городской пролетариат неминуемо должен был сделаться носителем революции, это не требует объяснения. Его духовная беспочвенность, безжалостная эксплуатация его труда, беспросветное существование заставляли жадно мечтать о перевороте. Ему подлинно нечего было терять. В революцию русский рабочий вложил свое понимание справедливости (которое не все сводилось к классовой зависти), и для нее принес за 20 лет немало жертв, геройствуя не хуже студентов: на эшафоте, в тюрьмах и ссылке. В 1905 году этот союз революционной интеллигенции, пролетариата и крестьянства был уже совершившимся фактом. Схема русской революции была дана — вплоть до идеи советов.
Совершенно условно и приблизительно рабочий и крестьянин шли за социалистическими партиями с.-д. и с.-р. Просто потому, что первые, во главу угла ставили пролетария, вторые —мужика. Но если для рабочих социализм, в самом туманном понимании, был действительно красным цветком, освещающим жизнь и борьбу, то для крестьянина это было пустое слово. С с.-р. у него было общим требование земли. Когда ему говорили о воле, он не противоречил, когда говорили о социализме — молчал. Социализацию земли переводил на язык общинных распорядков. Любая партия, написавшая в своей программе ликвидацию помещичьего земледелия, могла бы рассчитывать на поддержку крестьянства.
При наличии данных (связанных с интеллигентской традицией) партий, крестьянство числилось в с.-р. по недоразумению.
Недоразумений было достаточно и с рабочими. Экономические основы марксизма, на которых с таким талмуди-