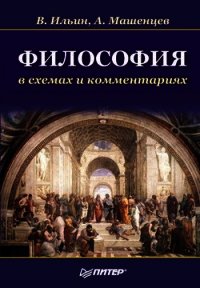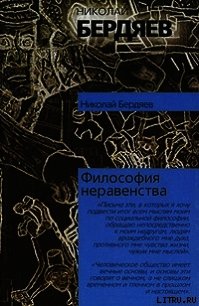О назначении человека - Бердяев Николай Александрович (серия книг txt) 📗
В проблеме войны нужно различать две совершенно разные стороны. Есть два вопроса: вопрос о предупреждении войны, о борьбе за духовный и социальный строй жизни, при котором война будет невозможной, и вопрос об отношении личности к войне, когда она уже началась и стала роком. Проблема еще усложняется тем, что в разные исторические периоды она по-разному ставится. Есть эпохи, когда война еще имеет смысл и оправдание. Поэтому ответ этики на мучительные вопросы совести о войне сложен. Война в прошлом имела смысл и оправдание, хотя бывали нередко войны бессмысленные и несправедливые. Но после ужаса мировой войны мы вступаем в эпоху, когда война теряет смысл и оправдание, когда борьба против возможности новых войн делается великой этической задачей. Этика принуждена дать двойной ответ на вопрошание о войне: должно стремиться всеми силами к предупреждению войны, к укреплению нравственного сознания, неблагоприятного для войн и осуждающего их, к созданию социальных условий, не вызывающих необходимости войн, но, когда война началась и ее уже нельзя остановить, личность не может сбрасывать с себя ее бремя, выйти из общей ответственности, из круговой поруки, она должна принять на себя вину войны во имя высших целей, но изживать ее трагически, как ужас и рок. Война есть рок, и потому она отталкивает христианскую совесть, которая сопротивляется року. Война есть кара. И ее нужно принять просветленно, как все испытания жизни. Так человек должен христиански-просветленно, с духовным смирением пережить смерть близкого человека, но он же должен был все сделать, чтобы смерть эта не наступила. Смысл же войны, как и всех больших исторических событий, обычно бывает совсем не тот, какой вкладывают в него активные деятели этих событий. Последняя мировая война имеет свой смысл, но он, конечно, не в том, в чем его видели борющиеся стороны. Она означает конец целой исторической эпохи и начало новой.
Войны порождаются сложным взаимодействием причин, и немалую роль в их возникновении играют причины экономические. Но эмоционально, аффективно они прежде всего связаны с национальными страстями. Войны объявляются и ведутся государствами, властью, и власть государственная не спрашивает разрешения народов на ведение войны. Но за государством скрыта нация, национальные интересы, столкновения, национальная любовь и ненависть. Национальность есть, бесспорно, ценность высшая, чем государство, которое имеет лишь функциональное значение. Государство лишь служит образованию нации, ее защите и развитию. Но ценность национальная, как и все ценности, может извращаться и претендовать на верховное и абсолютное значение. Тогда национализм, эгоцентрический и ненавистнический ко всем национальностям, кроме своей, стремится подчинить себе все ценности. Болезнью национализма страдают все народы, и она является эмоциональным источником войн. Этика должна признать ценность национальности и вместе с тем осудить национализм, который есть такая же ложь, как этатизм, как клерикализм, как сиентизм, как морализм, как эстетство. Все это формы идолатрии. Национализму противостоит другая ложь – ложь интернационализма. Национальность, как положительная ценность, иерархически входит в конкретное единство человечества, обнимающее все многообразие национальностей. Может ли победить ужас и зло войны анемичная проповедь пасифизма, которая обычно связывается с отвлеченным космополитизмом? Пасифизм противостоит милитаризму, но высшей, этической правды нет ни в том, ни в другом. Пасифизм – оптимистическое направление, отрицающее трагизм истории. В нем есть доля истины – воля, направленная к прекращению войн. Но пасифизм не хочет знать духовных условий прекращения войн, он остается на поверхности, в сфере небытийственной политики и правовых формул, не замечая иррациональных сил истории. Пасифизм есть рационализм. Но духовная проповедь мира и братства народов есть дело христианское, и христианская этика должна оспаривать его у рационалистического пасифизма. Для христианского сознания эта проповедь усложняется пониманием иррациональных и злых сил истории. Война имеет свою роковую диалектику, и эта диалектика скорее приведет к уничтожению войн, чем проповедь мира. Война связана с техникой и предполагает усложнение и успехи техники. И вот технические открытия, служащие для войны и истребления людей, так чудовищны, что они должны привести к самоотрицанию войн и к невозможности войн. Война делается не борьбой армий и даже не борьбой народов, а борьбой химических лабораторий, и она будет сопровождаться чудовищным истреблением народов, городов, цивилизаций, т. е. будет грозить гибелью человечеству. Рыцарские стороны войны, связанные с мужеством, храбростью, честью, верностью, совершенно отмирают и теряют значение. Они почти не играли эту роль и в последней войне. Война делается явлением совершенно другого порядка и требует другого наименования. Войну убьет техника войны. И тогда вопрос о духовном и нравственном общении народов становится вопросом о дальнейшем существовании человечества, ибо человечеству грозит гибель от усовершенствованных орудий истребления. Государства и цивилизации создают силы, которые влекут их к гибели.
Нравственное значение войны в смысле выработки человеческой породы было гораздо шире войны в собственном смысле слова. Нравственный тип воина, рыцаря, человека, с оружием в руках защищающего свою честь, честь слабых, честь своей семьи, честь своей родины, был преобладающим и оказал подавляющее влияние на нравственное сознание и на этос, он ставился выше других типов. Аристократ, дворянин, благородный был прежде всего воин, готовый оружием поддержать честь. Древние, жестокие, воинственные инстинкты человека перерабатываются в благородство породы, в мужественное отношение к жизни и бесстрашие перед смертью, в готовность всегда поставить честь и верность выше жизни. Воинская этика вырабатывала всегда силу характера, противилась изнеженности и размягчению мужского типа, она сумела инстинктам жестокости придать характер благородства. И нельзя отрицать того, что, хотя историческое рыцарство, связанное с воинством, умерло, некоторые выработанные им черты остались принадлежностью высшего, не мещанского человеческого типа. Буржуазии, которая выдвинула на первый план жизни борьбу экономических интересов и предприимчивость, не удалось выработать высоких черт, подобно рыцарству, ибо добродетель труда не есть ее специфическая принадлежность. Аристократическое благородство остается все-таки наиболее высоким типом внерелигиозного этоса. Воин есть человек, обладающий напряженным инстинктом чести и особенным понятием о чести. И вот тут происходит трагическое столкновение высоты человеческих нравственных понятий и высоты нравственных понятий, открытых Богом и заключенных в Евангелии. Высокая этика чести, ставшая общедворянской, благородной вообще, полагает, что лучше обидеть, чем быть обиженным, что лучше нанести оскорбление, чем потерпеть оскорбление, она кладет в свою основу то нравственное правило, что всякое оскорбление чести должно смываться кровью, и она всегда думает, что унижает человека не то, что исходит от него, а то, что входит в него. Воин, дворянин, благородный есть человек, который всегда боится, что его честь будет задета, что его благородство будет подвергнуто сомнению. И свою честь и благородство он полагает не в личных качествах и добродетелях, а в принадлежности к роду, к сословию. Это есть прежде всего сознание не личной чести, а чести родовой, сословной, чести полка, армии, дворянства, готовность во имя этой чести забыть себя и отдать свою жизнь. Тут личное нравственное сознание еще не пробудилось, тут все нравственные оценки и акты носят неличный, родовой, полковой, сословный характер, и все достоинство этих оценок и актов определяется степенью их безличности. Даже оскорбление, которое должно смыться кровью, вовсе не есть оскорбление личности в ее единственности и своеобразии, а оскорбление в этой личности рода, семьи, сословия, армии, полка и т. д. Оскорбление личности не может смываться кровью, кровью смывается лишь родовое оскорбление, кровь всегда связана с родом, и она есть восстание древних родовых, бессознательных инстинктов, которые сознание личности еще не победило. Личное сознание чести, благородства, достоинства раскрывается лишь в Евангелии, которое есть окончательное преодоление всякой родовой, безличной этики. И вот между этикой, выработанной войной и воинами, когда борьба с оружием в руках была самым благородным занятием, этикой, распространенной на всю благородную породу человечества, и этикой евангельской, христианской существует глубочайшее противоположение и конфликт, который должен был бы переживаться мучительно и трагически христианами, если бы личное сознание и личная совесть были в них сильнее и острее и не подавлялись родовыми инстинктами. Евангельская, христианская этика не знает понятия родовой, семейной, сословной, полковой чести, она знает лишь понятие личной чести. Личная же честь определяется духовным качеством личности, не столько ее неспособностью терпеть обиды и оскорбления, сколько ее неспособностью обидеть и оскорбить. Подставить щеку обидчику есть духовный подвиг, предполагающий смирение в себе и преодоление древних родовых инстинктов, но этот подвиг вызывает отвращение в человеке, находящемся во власти родовых понятий о чести и руководящемся этикой воина. Подставление щеки обидчику всегда может быть заподозрено в том, что оно есть проявление трусости. И в этом вся трудность проблемы. Подставить щеку обидчику можно лишь в порядке благодатном, как духовный подвиг и просветление, как обнаружение силы большей, чем та, которая обнаруживается в физическом насилии над обидчиком, в дуэли и пр. Простая же пассивность и равнодушие к обиде и тем более трусость есть явления отвратительные этически и стоящие много ниже воинских понятий о чести.