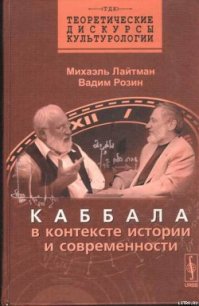Семиотические исследования - Розин Вадим Маркович (читаем книги TXT) 📗
Если в концепции Швейцера – Конен классическая музыка рождается из системы музыкальных речевых мелодических высказываний, то в концепции Л. Мазеля она формируется как система гармонического музыкального языка (представляя собой, по выражению Л. Мазеля, своего рода «музыкальную грамматику»). При этом Л. Мазель показывает, что на формирование этой системы влияли не только требования мелодического выражения, о которых пишут В. Конен и А. Швейцер, но и ряд других музыкальных и внемузыкальных факторов: эстетические требования голосоведения, слухового контроля, специфика музыкального материала (звукоряда), необходимость четкой дифференциации тонов, мелодической плавности движения и т. д. Система классической гармонии, согласно Л. Мазелю, складывается тогда, когда формируется сложный комплекс (особый звукоряд, оппозиция минора и мажора, функциональные связи тонов и т. д.), удовлетворяющий всем этим факторам.
Итак, кто же прав: В. Конен или Л. Мазель? В концепции В. Конен не ясно, как складываются «чистая», непрограммная музыка и музыкальное произведение как целое, поскольку не объяснен переход от отдельных музыкальных выражений и их значений к «чистой музыке» и произведению, где эти значения исчезают (вместо них в «чистой музыке» действительно царит гармоническая организация, тесно связанная с мелодическим движением, ритмом, тематическим развитием и другими композиционными и драматургическими особенностями произведения). А в концепции Л. Мазеля непонятно, как человек может войти в музыку, присвоить ее, выражать себя в ней, если у него нет такого проводника и учителя чувств, как системы стабильных речевых музыкальных выражений. В этой концепции мир классической музыки, представленный гармонической системой, выглядит парадоксально: с одной стороны, он замкнут, непроницаем для человека, а с другой – в точности похож на мир его души. Как ни странно, душевная эмоциональная жизнь человека, по Л. Мазелю, – это как бы та же музыка, в ней действуют те же динамические процессы, те же напряжения и разрешения (получается, что одна музыка немая, неслышимая «звучит» в душе человека, а другая, точно такая же, но громкая, повторяет и воспроиводит первую). В концепции Конен парадокс другой: понятно, как человек может войти в музыку (как в реку), но не понятно, как он поплыл, т. е. оказался в совершенно другой реальности (в реальности «чистой», непрограммной музыки).
Однако и В. Конен, и Л. Мазель, и многие другие музыковеды одинаково определяют природу музыки (и это образует еще одну загадку): они считают, что музыка выражает мир эмоций и переживаний человека. Когда таким образом природу музыки задает В. Конен или М. Харлап, – это понятно. Иное дело Л. Мазель, для которого музыка прежде всего – система языка, а не речь, произведение, не отдельные мелодические выражения, а сложный динамический и энергетический процесс (ср. с концепциями Э. Курта и С. Лангер), не просто система музыкальных образов. Но что вообще современные музыковеды имеют в виду, когда говорят о «выражении», «раскрытии» душевного континуума, эмоциональных состояний или переживаний? Означает ли это, что душевная и эмоциональная жизнь уже сложилась, и ее нужно только описать, представить, «промоделировать» в музыке? Или, может быть, само выражение в музыке как-то влияет на душевную и эмоциональную жизнь, видоизменяет их? Наконец, возможен и более кардинальный вариант: именно музыка (так же, как и другие искусства), выражение в ней чего-то (?) формирует определенные стороны и структуры душевной жизни. До музыки, вне музыки этих сторон и структур душевной и эмоциональной жизни не было в природе вообще. В отношении классической музыки этот тезис (гипотеза) может звучать так: именно классическая музыка сформировала в человеке Нового времени (начиная с XV столетия и дальше) определенные стороны и структуры душевной и эмоциональной жизни. В этом смысле человек Нового времени подготовлен не только культурой эпох Возрождения и Просвещения, но и классической музыкой.
Не получается ли при таком рассуждении парадокс: классическая музыка сформировала определенные стороны душевной жизни человека Нового времени, но разве не человек создал эту музыку? Прежде чем разобраться в данном противоречии, вспомним интересную концепцию психической жизни, сформулированную еще в конце 20-х годов одновременно В. Волошиновым и Л. Выготским.
«Действительность внутренней психики, – писал Волошинов, – действительность знака. Вне знакового материала нет психики… психику нельзя анализировать как вещь, а можно лишь понимать и истолковывать как знак» (17, с. 29). Всякое переживание, по его мнению, имеет значение и неизбежно должно «осуществляться на знаковом материале» (17, с. 31). Не столько знак приспособляется к психической жизни (нашему внутреннему миру), сколько психическая жизнь приспособляется к возможностям знакового обозначения и выражения» (17, с.43). Отсюда, естественно, следовало утверждение о том, что «психика в организме – экстерриториальна. Это социальное, проникшее в организм особи… знак, находящийся вне организма, должен войти во внутренний мир, чтобы осуществить свое знаковое значение» (17, с. 43). Сходные идеи в этот период развивает и Л. С. Выготский. Анализируя высшие психические функции, к которым относится и переживание произведений искусств, Выготский пишет, что в этих функциях «определяющим целым или фокусом всего процесса является знак и способ его употребления… характер употребляемого знака является тем основным моментом, в зависимости от которого конституируется весь остальной процесс» (19, с. 160). Сам же знак и его значение формируются сначала во внешнем социальном контексте и лишь затем усваиваются (интериоризуются) во внутреннем плане психики (см.: 19, с. 197).
Если далее предположить, что музыка в художественной коммуникации также является знаком в широком смысле слова (особого рода языком), то, следуя гипотезе Волошинова – Выготского, нужно утверждать, что музыка и психика формируются одновременно. Музыка, точнее определенные ее стороны, находит себя (организуется, формируется) через психику человека. Конечно, это всего лишь гипотеза, но мы попробуем применить ее для объяснения логики становления классической музыки.
Прежде всего напомним некоторые особенности музыки Средних веков и Возрождения (речь идет об основной тенденции, сформировавшейся в русле богослужения и церковной музыки). Эта музыка была неразрывно связана с религиозно-поэтическими текстами (писалась на соответствующие тексты и сопровождала их исполнение), а также с религиозной эстетикой (отрешенно-возвышенной или драматургической в религиозном смысле – переживание ужаса и страха перед загробной жизнью, переживание божественной тайны и восторга, смешанного со страхом, и т. п.). Музыка Средних веков и Возрождения была многоголосной, причем одни голоса не согласовывались в интонационном отношении с другими (например, в мотете XII-XIII вв. каждый из трех голосов имел самостоятельный текст и часто произносился на разных языках). Связь отдельных голосов достигалась согласованностью тонов, консонансностью созвучий, своеобразным «архитектурным» сочетанием и связью голосов (вспомним известную формулу «Музыка как звучащая архитектура»). Наконец, для музыки этого периода характерны «общие формы движения», отсутствие индивидуальности музыкальных выражений. Указанные особенности можно связать с несколькими моментами. Во-первых, музыка в союзе с религиозно-поэтическими текстами соединяла человека с Богом и не просто отдельного человека, а общину, человеческий «собор». С Богом человека связывало прежде всего слово, имеющее творящую, сакральную силу, поэтому средневековая музыка была неотделима от слова, сопровождала религиозное слово, несла его к Богу. Во-вторых, голос самого человека, обращающегося к Богу, звучал значительно слабее, чем голоса Христа, святых, ангелов или сатаны. Для средневекового человека мир был наполнен многими артикулированными голосами, поэтому и в музыке нельзя было допустить доминирование какого-нибудь одного голоса. В-третьих, человек почти не обращал внимания на свою внутреннюю жизнь, и соответственно она была мало дифференцирована и развита. Более осознавалась связь с общиной и Богом. Но даже когда человек сосредоточивался на своей душе и переживаниях, он понимал последние как вызванные внешними силами, а именно вмешательством светлых или темных сил («Тело охотнее покорялось душе, – пишет Августин, – нежели душа сама себе в исполнении высшей воли… А воля моя, к несчастью, была в то время не столько во власти моей, сколько во власти врага моего… две воли боролись во мне, ветхая и новая, плотская и духовная, и в этой борьбе раздиралась душа моя» (1, с. 209)). Как это ни кажется невероятным, человек Средних веков не имел переживаний и эмоций, соответствующих современным, характеризуемым непрерывностью, динамизмом, напряжениями и разрешениями, индивидуальной «драматургией». С переходом от ужаса к облегчению (в результате причастия или отпущения грехов) средневековый человек просто менял одно состояние на другое, связь между ними мыслилась не во времени, не в перипетиях собственного Я, а относилась к внешнему плану и действию (ведь отпускал грехи священник).