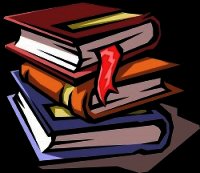Конец стиля (сборник) - Парамонов Борис Михайлович (библиотека электронных книг txt) 📗
Структурно, в строе души этот буржуа-пуританин — родной брат художнику: «Винсент и Тео». И тут мне вспоминается книга Эриха Фромма «Здоровое общество». Это один из первых теоретических набросков вэлфэр-стэйт. Интересно, какие соображения приводит Фромм в защиту своего проекта государственной помощи нуждающимся: что если человек, будучи биржевым брокером, захочет стать художником? Его нужно поддержать на первых порах. Вспомнился ли Фромму, когда ему пришла в голову эта мысль, Поль Гоген? Для этого сам Гоген уехал на Таити — ему не нужно было тащить таитян в Париж.
Российский мистик Гурджиев в начале века открыл школу обучения смыслу бытия и истины. Плату за обучение он назначил по тому времени непомерно высокую: тысячу рублей. Когда абитуриенты возроптали, он сказал: «Может ли понять смысл бытия человек, не способный достать тысячи рублей?»
«Мягкий» марксист Фромм все же не мог отделаться от представления, что деньги — главное, ему казалось, что буржуа это человек, не думающий ни о чем, кроме денег. Сам он явно не был буржуа — так же как и артистом: «хороший человек, но плохой музыкант».
Что же касается христианина, то он явно — «плохой человек». Вспомню третий раз Константина Леонтьева, говорившего о «трансцендентальном эгоизме» как основной установке христианской души. Здесь имеется в виду озабоченность спасением, сотериологическое беспокойство. Но человек спасается — как и умирает — в одиночку. И нужно ли доказывать — после всемирно исторического явления протестантизма, — что подлинному христианству чужда идея Церкви, соборного переживания Истины? Эту идею породили «жрецы», о которых писал Ницше.
Христианство в истории — это и есть превращение истории в биографию, приватизация истории, а не пертурбации различных «церквей». Вот когда история подлинно «кончилась» — в Рождестве Христовом! Это ведь даже и по Фукуяме так, но он об этом почему-то не вспомнил: христианство есть победа «либеральной демократии», то есть идеи человека, его уникальной судьбы, его неотчуждаемых прав — права на уникальную судьбу в первую голову.
Говоря о христианстве, я всякий раз имею в виду не конфессиональные проблемы, и не прозелитизм, а вот этот прорыв из истории в личную жизнь.
Пастернак в «Докторе Живаго» говорил о том, что в христианстве событие сугубо частное — рождение ребенка — становится равным величайшим историческим событиям, вроде перехода иудеев по Чермному морю: «Что-то сдвинулось в мире. Кончился Рим, власть количества, оружием вмененная обязанность жить всей поголовностью, всем населением. Вожди и народы отошли в прошлое. Личность, проповедь свободы пришли им на смену. Отдельная человеческая жизнь стала Божьей повестью, наполнила своим содержанием пространство вселенной».
Роды Мёрфи Браун были бы Рождеством, если б за этим следовало бегство в Египет, а не вэлфэрные выплаты матерям-одиночкам.
Но тогда историю следует назвать незадающимся христианством. По Канту: не конститутивный принцип, а регулятивная идея; другими словами, вечно отдаляющийся идеал — горизонт. Рим отнюдь не кончился с рождением Христа: нынешним русским, например, выпала судьба жить в Третьем.
Он, правда, тоже кончился. Четвертому же, говорят, не быть.
Между тем, Нью-Йорк удивительно похож на Рим, каким он представлен в «Сатириконе» Феллини. Каменная тяжесть, сомнительно умеряемая какими-то дырами; что-то вроде Южного Бронкса. Это и есть message Феллини: таков, говорит художник, был мир до Христа.
Надо ли перечислять дальнейшие черты сходства? Говорить о «хлебе» вэлфэра и о «зрелищах» какого-нибудь Шистэдиума, удивительно (своей бейсбольной незакругленностью) напоминающего нынешний Колизей? К тому же его (Нью-Йорк) непрерывно осаждают варвары — и даже проникают за городские стены, за рогатки Управления эмиграции и натурализации.
Здесь опять вспоминается Пастернак:
«Этот древний мир кончился в Риме от перенаселения.
Рим был толкучкою заимствованных богов и завоеванных народов, давкою в два яруса, на земле и на небе, свинством, захлестнувшимся вокруг себя тройным узлом, как заворот кишок. Даки, герулы, скифы, сарматы, гиперборейцы, тяжелые колеса без спиц, заплывшие от жира глаза, скотоложество, двойные подбородки, кормление рыбы мясом образованных рабов, неграмотные императоры. Людей на свете было больше, чем когда-либо впоследствии, и они были сдавлены в проходах Колизея и страдали».
Единственно, что способно примирить со зрелищем стадионной толпы, — это автомобильный ее разъезд. Автомобиль по определению — дело частное, максимум семейное. Это образ индивидуальной свободы, прафеномен американской культуры. Как, владея автомобилем, можно жить в гетто? Это contradictio in adjecto.
По приезде в Америку я пять лет прожил в проджекте — и намеренно не заводил автомобиля. Я не мог допустить такого смешения стилей. Теперь у меня есть автомобиль, и я наведываюсь из Нью-Йорка на Лонг Айленд: присматриваю дом в пригороде.
Это мой приватный способ разделаться с Римом, с властью количеств — с историей. Других, впрочем, и не бывает. Америка ведь знает это. Тут давно уже артикулирован принцип: общественные проблемы разрешаются частным образом.
Я полагаю, что это и есть то тайное знание, за которое мистик Гурджиев сдирал с учеников тысячу. А нынешняя Америка старается эту, однажды уже обнаруженную, тайну снова завуалировать. Худшее из лицемерий — отрицать свой собственный опыт. Нынешние догматики вэлфэра напоминают тех буржуев, которые ходили в церковь только для того, чтобы прислуга не забывала о морали.
Тема двадцатого века, да и самой истории, — тема приватизации бытия — не кончилась с концом коммунизма. История, к сожалению, продолжается — даже в Америке. Чтобы она поистине кончилась, нужно расчленить массу — выделить в ней человека, хотя бы и несчастного.
Нужно, чтобы каждый был несчастен по-своему. А в Америке Гефсиманские чаши раздаются серийно — в вэлфэрных офисах.
ВОИТЕЛЬНИЦА
Камилла Палья — явление, равное Шпенглеру если не по широте охвата тем, то по проникновенности и остроте культурологических характеристик. И еще одна ассоциация: Бердяев, конечно. Я не знаю писателя, более приближающегося к Бердяеву, а то и превосходящего его по суггестивности текста, нежели Камилла Палья. Но гораздо интереснее другая их же параллель: будучи почти тождественны психологически, Палья и Бердяев резко различествуют в духовной установке и системе ценностей. В этом сопоставлении обнаруживается принципиальная разница западного менталитета и «русской идеи», представленной хотя бы таким весьма нестандартным, нетрадиционным русским, как Бердяев. Камилла Палья буквально провоцирует к некоей русской реакции — к ответу.
С виду книга Камиллы Палья — сочинение по истории искусства. Его полное название «Сексуальные маски: искусство и декаданс от Нефертити до Эмилии Дикинсон». Слово «маски» дано в латинизированной, о Юнге напоминающей форме: personae — личины. Но все же этот термин у Пальи не только психологического, а скорее культурфилософского, временами и гносеологического характера. Это и некие идеальные образы, и (сексуальные) символы каких-то иных реальностей, некие архетипы, и даже своего рода трансцендентальные априори культурных явлений. Скажем, маска «красивый мальчик как разрушитель»: это и античная статуя Антиноя, и поэт Байрон, и литературный герой Дориан Грей (вместе с Тадзио из «Смерти в Венеции»), и рок-певец Элвис Пресли. Почему-то Палья не вспомнила главного, на мой взгляд, «мальчика-разрушителя» — Артюра Рембо, хотя о Бодлере, скажем, пишет много, но Бодлер интересует ее как один из создателей другой сексуальной маски: лесбиянки-вампира — декадентской модификации архетипического образа амазонки.
Почему же маски все-таки «сексуальные»? Здесь мы вступаем в область культурологии, а то и метафизики Камиллы Палья. Собственно, следует говорить не о метафизике, а о «физике» у Пальи, даже, пожалуй, об анатомии как об основном носителе онтологических определений. «Система» ее резко дуалистична, и противостояние двух онтологических начал едва ли не совпадает с этическими различениями. Слово «сексуальный» в названии книги Пальи объясняет дело. Враждующие онтологические (они же анатомические) начала — мужчина и женщина. Вот почему, между прочим, книга Пальи попала в феминистский контекст, чем, собственно, и был вызван главный скандал, приведший к таким происшествиям, как пикетирование лекций Пальи в одном из филадельфийских вузов, где она преподает. Ее позицию иногда называют «антифеминистическим феминизмом». Палья считает себя феминисткой, но нового типа: она призывает к соревнованию с мужчинами на культурном поле, а не к борьбе за покровительственную социальную политику в отношении женщин. Такое соревнование, говорит Палья, стало возможным только в мире культуры, созданной мужчинами: эта культура, и ничто иное, освободила женщин. Она пишет: