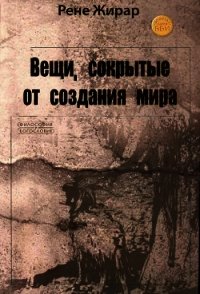Насилие и священное - Жирар Рене (книги хорошего качества TXT) 📗
Эдипов комплекс — явление западное и современное, точно так же, как Западу и современности принадлежат сравнительная нейтрализация и стерилизация миметического желания. Сокращаются сдерживающие его препятствия, но оно по-прежнему сосредоточено вокруг отца и потому способно находить какие-то формы стабильности и равновесия.
Но если психоанализ занимает определенное историческое место, то он возвещает и готовит то, о чем он абсолютно не способен сказать, — еще большую степень обезразличенности, приводящую к окончательному стиранию отцовской роли.
Подобно любому мифологическому мышлению, психоанализ — закрытая система, и опровергнуть его невозможно. Если конфликта с отцом нет, то говорят, что этого требует бессознательный характер комплекса; если конфликт есть, опять ссылаются на комплекс — именно он здесь «проявляется», а если он «недоустранен», это опять-таки доказывает, что он есть!
Мало того что правота психоанализа всегда подтверждается — она подтверждается все лучше и лучше, по мере того как распространяется и обостряется миметизм, достигает критического темпа деструктурация, становится повсеместным «двойной зажим». Чем меньше отца, тем сильнее разыгрывается «Эдип». Отныне ничего не стоит связать бесчисленные психические проблемы с Эдипом, чей Лай остается неуловим. И тогда заявляют, что только ложный психологизм заставляет возводить комплекс к реальному отцу, к дяде из плоти и крови, и вообще к конкретному индивиду. И это правда. Торжество психоанализа абсолютно. Он повсюду — иначе говоря, нигде; он избегает ложных общих мест лишь затем, чтобы впасть в формалистический эзотеризм.
Если «эдипов комплекс» — это ошибочная интерпретация «двойного зажима», значит, все то, что мир и сам отец принимают за сыновнее желание отцеубийства и инцеста, стимулируется самим отцом, точнее — образцом.
Власть фрейдистского мифа в наши дни настолько сильна даже над скептиками, что мои слова, наверно, сочтут шуткой. Поэтому нужно настойчиво искать подтверждений — прежде всего у автора, которым в этих вопросах никто не осмелится пренебречь, — у Софокла. Можно было бы снова обратиться к «Царю Эдипу», но к этой пьесе обращались так часто и в столь разных целях, что ее показательная ценность истощена. Поэтому обратимся к произведению менее популярному — к «Трахинянкам».
В последнем акте Геракл, главный герой, корчится от боли в отравленной тунике. Гилл почтительно ожидает отцовских распоряжений. Призвав сына к послушанию, Геракл требует, чтобы он разжег огромный костер, перенес туда отца и избавил его от страданий. Гилл восклицает: отец хочет сделать его отцеубийцей! Геракл настаивает, причем так, что отец становится подстрекателем к отцеубийству, виновником беспощадного «двойного зажима»:
Продолжение еще поразительней. Геракл просит сына еще об одной услуге — менее важной, по его словам, чем первая. В этот момент текст приобретает отчетливый комедийный привкус, по крайней мере — в современном контексте, пропитанном психоаналитическим педантизмом. Со смертью Геракла лишится покровителя юная Иола, его последняя жена, взятая во время последнего «подвига»:
После этой мольеровской реплики диалог продолжается и по-прежнему заслуживает внимания. Гилл внешне мотивирует свой отказ жениться на Иоле ролью — впрочем, совершенно пассивной, — которую молодая женщина сыграла в завершающейся теперь семейной трагедии. В сущности, речь идет об истинном соотношении между желанием сына и желанием отца, об отношении тождества, которое мир принимает за нечестивый бунт и которое есть чистейшее послушание отцовской воле, внушению то вкрадчивому, то повелительному со стороны отца-образца: Желай того, чего желаю я.
«Сказка», как мы видим, гораздо лучше, чем психоанализ, разбирается в отношениях отца и сына. Для современной мысли это хороший урок смирения. Софокл, которому уже двадцать пять веков, еще может помочь нам сбросить иго самой тягостной из мифологий — мифологии эдипова комплекса [62].
Глава VIII. «Тотем и табу» и инцестуальные запреты
Об идеях, развитых в «Тотеме и табу», современная критика отзывается практически единодушно — они неприемлемы. Фрейд заранее постулирует все, что книга должна доказать. Первобытная орда Дарвина — карикатура семьи. Сексуальная монополия доминирующего самца совпадает с будущими запретами на инцест. Образуется, пишет Леви-Стросс в «Элементарных структурах родства», «порочный круг, выводящий социальность из фактов, которые ее уже предполагают».
Эти возражения сохраняют силу для непосредственного содержания книги, для ее смыслового конспекта. Но в «Тотеме и табу» есть и то, что под такое описание не подпадает. Скажем, может создаться впечатление, что коллективное убийство включено в обычные изложения этой работы, но на самом деле это отнюдь не так. Разумеется, о нем всегда упоминают. Более того, оно составляет главную достопримечательность этого странного произведения, чуть ли не туристский аттракцион. Вокруг этого барочного памятника устраивают прогулки под руководством гидов, точно знающих, что следует о нем говорить. Раз уж Фрейд мог создать такую нелепицу, то, значит, даже гений не застрахован от колоссальных заблуждений. Это странное сооружение вызывает растерянность; остается впечатление невольного и грандиозного фарса, вроде тех, какие устраивал стареющий Гюго в своих поздних романах.
После более внимательного чтения странность делается еще очевидней. Убийство в самом деле имеется, но оно никак не использовано, по крайней мере — в той линии, где оно вроде бы использоваться должно. Если предмет книги — генезис сексуальных запретов, то убийство Фрейду ничего не дает, даже создает трудности. Действительно, не будь убийства, безо всякого разрыва можно было бы перейти от сексуальных ограничений, которые накладывает на молодых самцов страшный отец, к собственно культурным запретам. Убийство разрушает эту непрерывность. Фрейд старается залатать брешь, но без особой уверенности, и его итоговые идеи оказываются одновременно и более непоследовательными и менее примитивными, нежели про них принято думать.