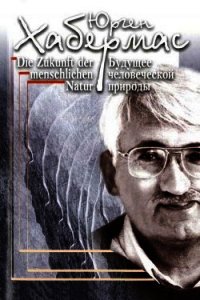Вовлечение другого. Очерки политической теории - Хабермас Юрген (книги бесплатно без регистрации .TXT) 📗
2). Однако в составе этой воинственной философии жизни можно отметить и выделить некую точку зрения. По мнению Шмитта, за идеологически обоснованной «войной против войны», которая переводит ограниченную во временном, социальном и вещественном отношении вооруженную борьбу между «организованными национальными единицами» в эндемическое состояние квазивооруженной гражданской войны, стоит универсализм общечеловеческой морали, получившей понятийное выражение благодаря Канту.
Все говорит в пользу того, что на миротворческие интервенции или на операции по поддержанию мира, проводимые ООН, Карл Шмитт отреагировал бы не иначе, чем Ганс Магнус Энценсбергер: «Специфической для Запада является риторика универсализма. Постулаты, которые при этом были выдвинуты, должны иметь значение для всех без исключения и без какой бы то ни было разницы. Универсализм не знает различия между ближним и дальним, он безусловен и абстрактен… Но так как все наши возможности действовать ограничены, ножницы между притязанием и действительностью раскрываются все шире. Вскоре оказывается нарушенной граница, отделяющая от объективного ханжества; в этом случае универсализм оборачивается моральной ловушкой». [282] Существуют, стало быть, ложные абстракции общечеловеческой морали, ввергающие нас в самообман и склоняющие к переоценке собственных возможностей. Границы, над которыми возвышается такого рода мораль, Энценсбергер, подобно Арнольду Гелену, [283] определяет антропологически, в терминах пространственной близости и отдаленности: существо, нравы которого столь извращены, морально функционирует как раз только в сфере наглядно достижимой близости.
Карл Шмитт, говоря о гипокризии, имеет в виду, скорее, гегелевскую критику Канта. Свою презрительную формулу «человеское — звериное» он снабжает двусмысленным комментарием, который на первый взгляд с равным успехом мог бы принадлежать и Хоркхаймеру: «Мы говорим о центральном городском кладбище и тактично умалчиваем о скотобойне. Однако бойня подразумевается сама собой, и было бы негуманно, даже просто по-скотски, произнести это слово». [284] Афоризм двусмыслен в том отношении, что сначала он, в духе критики идеологии, кажется направленным против преображающего абстрагирования платоновских общих понятий, при помощи которых мы слишком часто лишь прикрываем оборотную сторону цивилизации победителей, а именно страдание ее маргинализованных жертв. Однако такая трактовка как раз требовала бы разновидности эгалитарного уважения и универсального сострадания, демонстрируемых осуждаемым моральным универсализмом. То, что хочет выставить напоказ антигуманизм Шмитта (вместе с Гегелем Муссолини и Ленина [285]), — это не убойный скот, но бойня — гегелевская бойня народов, «честь войны», ибо далее следует: «Человечество не может вести никакой войны… Понятие человечества исключает понятие врага…». [286] Согласно Карлу Шмитту существует, следовательно, естественный порядок политического, якобы неизбежное различение между другом и врагом, от которого общечеловеческая мораль ошибочно абстрагируется. Подводя «политические» отношения под понятия «доброго» и «злого», она и военного противника делает «бесчеловечным чудовищем, которое должно быть не только отогнано, но и окончательно уничтожено…». [287] И так как дискриминирующее понятие войны восходит к универсализму прав человека, то в конечном счете имеет место инфицирование международного права моралью, объясняющее совершаемую «во имя человечества» бесчеловечность современных межгосударственных и гражданских войн.
История влияния этого морально-критического аргумента, даже и вне зависимости от того контекста, в который он включен у Карла Шмитта, была зловещей. Потому что истинное усмотрение связано в нем с роковым заблуждением, питаемым за счет понятия политического, основанного на принципе «друг — враг». Истинное ядро состоит в том, что непосредственная морализация права и политики действительно нарушает границы тех охранных зон, к обеспечению которых для субъектов права мы стремимся с полным основанием, а именно с основанием морального свойства. Ошибочным, однако, является допущение, что этой морализации можно воспрепятствовать, лишь освободив или очистив международную политику от права и право — от морали. В условиях правового государства и демократии ложно и то и другое: идея правового государства требует, чтобы силовая субстанция государства канализировалась легитимным правом во внешнем направлении точно так же, как и во внутреннем; а демократическое легитимирование права должно гарантировать, что право не расходится с признанными принципами морали. Право всемирного гражданства есть следствие из идеи правового государства. С его помощью впервые устанавливается симметрия между правовой оформленностью общественного и политического сообщения по эту и по ту сторону государственной границы.
Карл Шмитт оказывается поучительным образом непоследователен, когда настаивает на пацифицированном состоянии во внутренних делах и на беллицизме — во внешних. Поскольку и внутригосударственный правовой мир он представляет себе лишь как скрытый спор между органами государства и их врагами, удерживаемыми постоянной угрозой репрессий, то лицам, облеченным государственной властью, он предоставляет право объявлять представителей политической оппозиции внутригосударственными врагами — практика, которая, между прочим, оставила свои следы в Федеративной Республике. [288] В отличие от демократического правового государства, где решения относительно ощутимых вопросов, связанных с действиями, противоречащими конституции, принимают независимые суды и граждане (в крайних случаях активизируемые даже путем гражданского неповиновения), Карл Шмитт оставляет криминализацию политического противника как противника в гражданской войне на усмотрение соответствующего властителя. Так как государственно-правовой контроль в этой окраинной зоне внутригосударственного сообщения ослабевает, то возникает именно тот эффект, которого Карл Шмитт опасается как следствия пацификации межгосударственного сообщения: охват моральными категориями политического действия, охраняемого правовыми средствами, и стилизация противника под агента зла. В этом случае было бы непоследовательным требовать, чтобы международное сообщение не затрагивалось государственно-правовым регулированием.
На самом деле на международной арене непосредственная морализация политики не более вредна, чем в споре правительства с его внутригосударственными врагами, возможность которого Карл Шмитт словно бы в насмешку допускает, ошибочно определяя место локализации ущерба. Но и в том и в другом случае ущерб возникает лишь потому, что охраняемое правовыми средствами политическое или государственное действие кодируется двояким образом: сначала оно морализируется, т. е. оценивается согласно критериям «доброго» и «злого», а затем криминализируется, т. е. судится по критериям «правого» и «неправого», без того чтобы были выполнены — и это решающий момент, скрываемый Шмиттом — правовые условия для беспристрастного функционирования судебной инстанции и для нейтрального исполнения наказания. Политика прав человека, проводимая всемирной организацией, извращается лишь в том случае, оборачиваясь человеческо-правовым фундаментализмом, если для некоей интервенции, которая на самом деле представляет собой не что иное, как борьбу одной партии против другой, она, под видом кажущейся юридической легитимации, заполучает легитимацию морального свойства. В таких случаях всемирная организация (или действующий от ее имени альянс) совершает «обман», выдавая то, что в действительности является вооруженным спором между воюющими сторонами, за нейтральное, оправдываемое исполнением законов и приговоров полицейское мероприятие. «Морально обосновываемые обращения грозят обрести фундаменталистские черты, если не имеют своей целью применения правовых процедур для осуществления (а также позитивирования. — Ю. X.) прав человека, но непосредственно прибегают к схеме толкования, с помощью которой нарушения прав человека могут приписываться, и если они являются единственным источником требуемых санкций». [289]