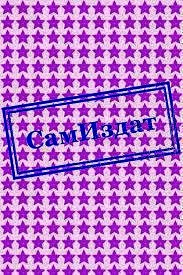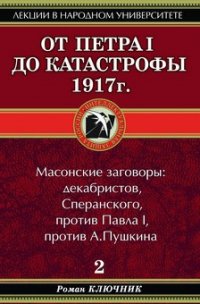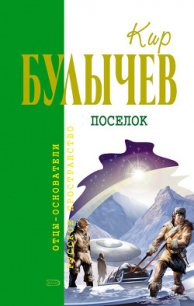Творческая эволюция - Бергсон Анри (электронные книги без регистрации txt) 📗
Новая философия должна была поэтому сделаться возобновлением, или, вернее, перемещением древней философии. Последняя брала каждое из понятий, в которых концентрируется становление или которыми обозначается высшая его точка, предполагала, что все они известны, и соединяла их в одно понятие, форму форм, идею идей, каким, например, был Бог у Аристотеля. Первая берет каждый из законов, устанавливающих отношения одного становления к другим и являющихся постоянным субстратом явлений; она предполагает, что все они известны, и соединяет.их в единство, которое также должно служить их полному выражению, но которое, как Бог Аристотеля, и по тем же причинам должно оставаться неизменно заключенным в самом себе.
Правда, этот возврат к античной философии совершался не без значительных трудностей. Когда такие философы, как Платон, Аристотель или Плотин, соединяют все понятия своей науки в одно, они охватывают таким путем совокупность реального, ибо понятия представляют сами вещи и заключают в себе по крайней мере столько же положительного содержания, как и вещи. Но закон вообще выражает только отношение, и физические законы, в частности, выражают только количественные отношения между конкретными вещами: так что если современный философ оперирует законами новой науки, как античная философия оперировала понятиями науки древней, если он сводит в одну точку все заключения физики, считающейся универсальной наукой, - он оставляет в стороне то, что есть конкретного в явлениях: воспринятые качества, сами восприятия. Его синтез, как представляется, должен обнимать только часть реальности. На деле первым результатом реальной науки было разделение реального на две половины - количество и качество, из которых одна была отнесена на счет тела, другая - на счет души. Древние не воздвигали подобных барьеров ни между качеством и количеством, ни между душой и телом. Для них математические понятия были такими же понятиями, как и любые другие, они были родственны другим понятиям и вполне естественно входили в иерархию идей. Ни тело не определялось тогда геометрической протяженностью, ни душа - сознанием. Если ц>и^Т[ Аристотеля, энтелехия живого тела, менее духовна, чем наша "душа", то это потому, что его стю^а, уже пропитанное идеей, менее телесно, чем наше "тело". Разрыв между двумя членами не был еще, таким образом, окончательным. Но он сделался таковым, и с того времени метафизика, нацеленная на абстрактное единство, должна была или примириться с тем, чтобы охватывать своим синтезом только половину реального, или, наоборот, воспользоваться абсолютной взаимной необратимостью обеих половин, чтобы на одну из них смотреть как на перевод другой. Различно звучащие фразы скажут различные вещи, если они принадлежат одному и тому же языку, то есть имеют между собой известное звуковое родство. Напротив, если они принадлежат двум различным языкам, то именно в силу радикального звукового различия они смогут выразить одно и то же. То же самое относится к качеству и количеству, к душе и телу. Именно потому, что между двумя членами была порвана всякая связь, философы вынуждены были установить между ними строгий параллелизм, о котором древние и не помышляли, и считать их переводом друг друга, а не обращением одного в другой, словом, субстратом их дуализма сделать основное тождество. Синтез, до которого поднялись, сделался поэтому способным обнять все. Божественный механизм заставил соответствовать одно другому - явления мысли явлениям протяженности, качества - количествам, души - телам.
Этот-то параллелизм мы находим и у Лейбница, и у Спинозы, правда, в разных формах, по причине неодинакового значения, придаваемого ими протяженности. У Спинозы оба члена - Мысль и Протяженность - находятся, по крайней мере, в принципе, в одном ранге. Это - два перевода одного и того же оригинала, или, как говорит Спиноза, два свойства одной и той же субстанции, которую нужно назвать Богом. И оба эти перевода, как и бесконечное число других, на неизвестных нам языках, вызваны и даже потребованы оригиналом, подобно тому, как сущность круга передается, так сказать, автоматически и фигурой, и уравнением. Для Лейбница, напротив, протяженность хотя и является также переводом, но оригиналом является мысль, и эта последняя могла бы обойтись без перевода: перевод создан только для нас. Полагая Бога, с необходимостью полагают также и все возможные с него снимки, то есть монады. Но мы всегда можем представить себе, что снимок был схвачен с известной точки зрения, и такому несовершенному уму, как наш, естественно качественно различные снимки распределять по качественно тождественным разрядам и положениям точек зрения, откуда снимки могли быть сделаны. В действительности не существует точек зрения, ибо существуют только снимки, - каждый, как неделимое целое, и каждый по-своему изображающий реальность, как целое: такая реальность и есть Бог. Но у нас есть потребность переводить множественность несходных между собой изображений на множественность этих внешних друг другу точек зрения, равно как символизировать большее или меньшее родство снимков относительным положением друг к другу этих точек зрения, их соседством или их взаимным отдалением, то есть величиной. Это и выражает Лейбниц, говоря, что пространство есть разряд сосуществовании, что восприятие протяженности есть восприятие смутное (то есть относительное, зависящее от несовершенства разума) и что нет ничего, кроме монад, понимая под этим, что реальное Целое не имеет частей, но что оно бесконечно повторяется, каждый раз целиком (хотя различно) внутри себя, и что все эти повторения дополняют друг друга. Так видимый рельеф предмета соответствует совокупности стереоскопических снимков с него, сделанных со всех точек зрения; и вместо того, чтобы видеть в рельефе рядоположение твердых частей, можно также рассматривать его как созданный из взаимной дополнительности этих общих снимков, данных каждый целиком, как неделимый, отличающийся от других и, однако, представляющий одну и ту же вещь. Целое, то есть Бог, есть для Лейбница тот самый рельеф, а монады - это плоские изображения, дополняющие друг друга: вот почему Бог определяется им как "субстанция, не имеющая точек зрения", или как "универсальная гармония", то есть взаимная дополнительность монад. В сущности Лейбниц отличается от Спинозы тем, что он рассматривает универсальный механизм как аспект, который реальность имеет в наших глазах, тогда как Спиноза делает из него аспект, принимаемый реальностью для самой себя.
Правда, что сконцентрированная в Боге совокупность реального сделала для этих философов затруднительным переход от Бога к вещам, от вечности ко времени. Затруднение для них было даже гораздо значительнее, чем для Аристотеля или Плотина. Бог Аристотеля на деле был получен сжатием и взаимным проникновением Идей, представляющих, в законченном состоянии или в своем кульминационном пункте, вещи, которые меняются в мире. Он был поэтому трансцендентен миру, и длительность вещей рядополагалась с его вечностью как ее ослабление. Но принцип, к которому приводит рассмотрение универсального механизма и который должен быть субстратом последнего, конденсирует в себе уже не понятия, или вещи, но законы, или отношения. Отношение же не существует изолированно. Закон соединяет между собой меняющиеся члены; он неотделим оттого, чем управляет. Принцип, в котором все эти отношения конденсируются и который лежит в основе единства природы, не может поэтому быть трансцендентным к чувственной реальности; он присущ ей, и нужно предположить разумом, что он существует во времени и вне времени, собран в единстве своей субстанции и вместе с тем осужден развертывать ее в цепь, не имеющую ни начала, ни конца. Чтобы не формулировать столь шокирующего противоречия, философы вынуждены были пожертвовать более слабым из двух членов и считать ту сторону вещей, которая связана со временем чистой иллюзией. со временем, чистой иллюзией. Лейбниц говорит об этом в точных выражениях, ибо он делает из времени, как и из пространства, смутное восприятие. Если множественность его монад выражает только многообразие снимков, сделанных с целого, то история одной изолированной монады является для этого философа не чем иным, как множественностью снимков, которые монада может получить от своей собственной субстанции, так что время будет состоять в совокупности точек зрения каждой монады на самое себя, как пространство - в совокупности точек зрения всех монад на Бога. Мысль Спинозы гораздо менее ясна, и кажется, что этот философ пытался установить между вечностью и тем, что длится, ту же разницу, которую устанавливал Аристотель между сущностью и случайностями: предприятие самое трудное, так как не было более Аристотеля, чтобы измерять отклонение и объяснять переход от существенного к случайному, ибо Декарт его вычеркнул навсегда. Как бы то ни было, чем более исследуешь спинозистскую концепцию " неадекватного" в отношении его к " адекватному" , тем более чувствуешь, что идешь в направлении к Аристотелю, подобно тому, как монады Лейбница, по мере того, как они яснее вырисовываются, стремятся приблизиться к Умопостигаемым Плотина. Естественная склонность этих двух философских систем приводит их к заключениям античной философии.