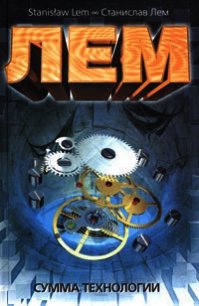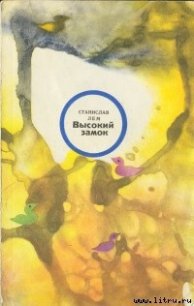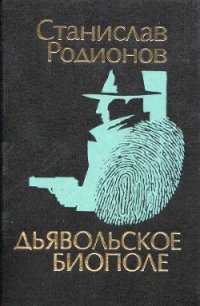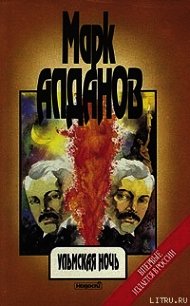Философия случая - Лем Станислав (лучшие книги без регистрации txt) 📗
По мнению Ингардена, предложения «Янина сидела у Марека на коленях» и «Бывало, Янина сиживала у Марека на коленях» разделяет целая пропасть. По правилам «визуализации» можно себе представить только первую ситуацию, поскольку повторность действия никакими мерами невозможно представить в качестве наглядной. Я уж не буду вглядываться в потрясающую пропасть между двумя предложениями. К тому же дело не совсем обстоит так, будто человек, читающий первое из них, в плане процессов конкретизации как-то совершенно радикально отдален от того, кто читает второе предложение. По-моему, пропасть вырыта искусственно. Если так обстоит со «схематизированными представлениями» внешних явлений, то, пожалуй, еще хуже – с аналогичными представлениями о явлениях психических. По суждению феноменолога, это тоже должны быть схемы, только «внутренние». Поэтому прежде всего необходимо заметить в общем плане, что степень проникновения «авторского объектива» в глубь ментальности литературного персонажа – величина переменная. Притом может быть и так, что этот «объектив» будет постигать разнообразные «душевные качества»; и так, что он, наоборот, может «совлекать» с персонажа отдельные психические состояния и бросать свет на внутренний мир в целом, чтобы выявить в нем черты, функционально связанные с актуальными свойствами эмоций, характера или с какими-нибудь другими «психическими» параметрами описываемого лица. Более того, автор, описывающий бурю в пустынной степи, рассказывает об этой буре так, как если бы он сам – или повествователь – своими глазами эту бурю видел, а в этом заключена антиномия. Степь пуста, то есть безлюдна, а показана именно так, как если бы в ней находились чьи-то глаза, уши, руки, ноги, свидетельствуя о силе вихря, раскатах грома и т.д. Мы можем узнать от автора, что у какой-нибудь комнаты, опять-таки пустой, вид был очаровательный (для кого, раз там никого не было?) или страшный (повторим тот же вопрос). Одним словом, по существу все описания внешних явлений в каждом литературном произведении очерчиваются различными родами типично ментальных оттенков. Даже Роб-Грийе не может описать «предметов в себе», но только притворяется, будто практикует такое описание.
Что же касается состояний несомненно «внутренних», то есть относимых к конкретной личности, то применительно к их пониманию надо согласиться с тезисом (см. выше), что ни один перевод с одного языка (в данном случае: с «языка» внутренних состояний) на другой не дает полной эквивалентности исходному. Ведь каждый признает, что психические процессы локализованы в головах живых людей, а не – например – в книгах, которые стоят на полках. Что же в таком случае должно означать обозначение тех или иных секторов духовной жизни «схематизированными внутренними представлениями»? Не о том ли речь, что никто не может непосредственно постичь психических состояний другого лица (а в плане интроспекции человек замкнут в себе от рождения до смерти)? Однако эта особенность, эта невозможность не является свойством исключительно одних только литературных произведений. Или, быть может, речь должна была идти о том, что описания чужих психических состояний суть нечто менее очевидное и определенное по сравнению с самими этими состояниями. Но это опять-таки трюизм – производный от того, который мы выше рассмотрели. Представим себе, что литературное произведение, хотя бы, например, «Звук и ярость», возникло в результате того, что записали поток сознания идиота. Если бы мы потом реально встретились с этим идиотом, он не сумел бы нам пересказать речевыми средствами даже десятой части той информации о своем мышлении, которая содержится в романе и которой мы на самом деле обязаны Фолкнеру. Но по существу где же можно обнаружить в такой ситуации схематичность? В литературном произведении или в реальной жизни? Идиот – да в конце концов и обыкновенный человек – если стремится уведомить нас о своем психическом состоянии, пользуется языком, опирающимся на культурные стереотипы. Писатель, как я о том знаю по собственному опыту, подчас умеет артикулировать наши психические состояния лучше, чем мы сами могли бы это сделать. Ибо он умеет рассказать нам самим о том, что происходит в нашей душе, когда нас охватывает тревога или гнев. Бывает даже так, что при подобных переживаниях мы воспринимаем литературное описание как свое личное откровение, которое уясняет нам то, о чем мы не знали, хотя бы и сами переживали такого рода состояния. Мы, например, не умеем даже, взглянув внутрь себя, «демаскировать» господствующие над нами подсознательные мотивы, и вот внезапно литературное произведение, показывая нам подобные процессы у вымышленной личности, открывает нам глаза на скрытые механизмы нашей собственной деятельности. Я не вполне уверен, кроме того, что можно утверждать, будто текст иногда дает как бы «схематизированные представления» психических состояний, потому что говорить о них как о «схематизированных» можно только применительно к другим (по отношению ко мне) личностям. Если бы я «сам был» такой «другой личностью», я был бы в состоянии интроспективно познавать не только то, о чем говорит литературное произведение, но опытно постигал бы больше и потому уже «несхематично». Я не вполне уверен, что дело обстоит именно так. Дело в том, что писатель, воплощая переживания в текст, может стремиться к словесному выражению таких настроений, которые в данный момент представлены в интроспекции, но для которых вместе с тем нет такой меры, чтобы она могла помочь их идентифицировать для облечения их в слова. Если же, наконец, под «схематизированными представлениями» имеется в виду то, что в нас остается связанного с переживаниями, более архаичного, чем знание, такой остаток, который нельзя рационально понять и учесть, то несомненно, что такой остаток всегда имеется – например, сопутствует любому речевому акту. Однако дело, видимо, и не в этом, по крайней мере когда рассмотрению подвергаются «схематизированные представления» о психических состояниях. Если же мы примем, что каждый акт дискурсивного познания из всего комплекса таких актов как возможных отчасти «схематичен» и отчасти выражает душевное настроение, то с этим можно согласиться, однако непонятно, чем это общее свойство высказываний объединяется со спецификой литературного произведения.
Что же касается, наконец, самой «визуализации», а именно упомянутой «визуализации схематизированных представлений», то мне как читателю литературы ничего об этих представлениях не известно. Так, читая труд Симпсона об эволюции лошадей, я не видел там ни одной живой лошади, а в «Трилогии» Сенкевича – никаких живых экземпляров упоминаемых там лошадей из пород дзянетов и бахматов. Что я видел у Сенкевича, так это великолепную языковую сторону описаний, которой мне до такой степени было достаточно, что я уже не хочу и не могу что-то в дополнение к ней представлять зрительно. Равным образом и тогда, когда я сам пишу роман, я ничего чувственного перед собой не воображаю. Мысли появляются в моем сознании безобразно – правда, и не целиком как феномены языка, потому что они не расчленены сразу на синтаксические периоды, но скорее образуют некий особый «туман значений», выражающий себя тем, что он явственно вытягивается в определенных направлениях (внепространственных, ибо это направления семантические). Когда все это происходит, я ощущаю экстаз, определенно подобный тому, который ощущает рыбак при виде ныряющего поплавка. Он тогда знает, что наживка кем-то схвачена, но еще не знает, кем именно. Значения выстраиваются в ряды, а мысленный «туман» впервые (но для этого нужны немалые активные усилия) как бы сгущается в зачатки постепенно все более отчетливых предложений, образующих некий стенографический конспект замысла всего литературного произведения. Однако потом, когда этот замысел уже претворился в структурно упорядоченную и артикулированную картину, очень трудно в точности составить себе ясную картину первоначального состояния, потому что эта упорядоченность как бы «заслоняет» собой то, что было замышлено «до нее». Поскольку такие сгущения с последующим упорядочением повторялись у меня многократно, я точно знаю, что это первоначальное состояние исполнено значений, значащее, но внеязыковое. Иначе не было бы разрыва между ним и рационально выведенной из него совокупностью предложений, а нахождение наиболее уместных слов для понятий, «вольных как ветер», не требовало бы столь ощутимого усилия. Как известно, когда мы говорим на определенную тему, то явно находящееся у нас в сознании, в его отчетливом центре – это всегда артикулированное и актуальное для нас предложение. Но следуя одно за другим, по порядку, предложения приобретают известную специфическую, реально господствующую над разговором, заданную его темой направленность. Однако сама эта направленность не должна столь отчетливо вырисовываться в центре поля внимания, как то, что непосредственно высказывается. Таким образом, инструментальная ось «тема – предложение – направленность» присутствует всегда, но присутствует не в качестве артикуляции. Допустим, темой вообще-то служат проблемы канализации Кракова, но в данный момент речь идет о способах очистки сточных вод на Краковском рынке. Тем не менее дело не будет обстоять так, чтобы непрерывно только и твердили: «Канализация Кракова, проблемы канализации» и т.п. Так не поступают: тема главенствует над суждениями, но она не наличествует в поле сознания непрерывно в языковом ключе. Нет, она задает для данного поля как бы рамки, вместилище, берега. Поэтому не будет противоречием сказать, что о данной теме в ходе разговора действительно думалось, но думалось неязыковыми средствами, хотя многие философы энергично возражают против возможности неязыкового мышления. Я никогда не был в состоянии понять их позиции. Впрочем, каждый человек, если его ex abrupto [6] спросить насчет такой возможности, что-нибудь да сумеет ответить. Причем дело не обстоит так, чтобы реально высказываемые им мнения возникли у него благодаря тому, что он духовным взором прочел то, что уже ранее каким-то образом было записано в его уме или в сознании. Мнения актуализируются на некоторой тематической основе, которая внешне «проявляется», или, как иначе можно сказать, «стремится к бытию», то есть к сознательной формулировке. Основа эта только в том смысле «есть» в сознании, что о ней «известно». Проще говоря, люди помнят, какую тему обсуждают, но эта память – не какое-то безмолвное повторение про себя определенных предложений или сюжетов. По существу она вполне подобна тому, что называют «помысел»: каждый «помысел» – это в определенном роде такая «основа» или «тема», которая привходит в сознание еще на бессловесном уровне, как «шепот», и первоначально представляет собой только определенное перемещение и кристаллизацию выразительных моментов на семантическом уровне разума. Исследование этой «основы» показывает, что если какой-либо из этих моментов ограничивается очень сжатой фиксацией «помысла» – например, в виде одного предложения, – то по прошествии некоторого времени может оказаться, что эта запись потеряла всякую ценность, потому что стала для меня абсолютно непонятной. И это потому, что за истекший промежуток времени полностью улетучился контекст, по существу внесловесный и внеязыковой, заданный конкретной психической ситуацией, которая в своем целостном виде не может быть выражена дискурсивно.