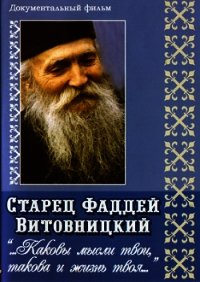Из жизни идей - Зелинский Фаддей Франкович (книги онлайн без регистрации полностью .txt) 📗
Намек был понят; он тронул присутствующих до слез. Афины не были разрушены, но гегемонию они потеряли: жезл Агамемнона перешел к тому городу, в котором находилась признанная могила его сына.
Вторично Спарта стала мечом Эллады; под ее предводительством возобновилась война с вековым восточным врагом. Чтобы засвидетельствовать перед всеми историческую связь спартанской гегемонии с героической гегемонией Атридов, спартанский царь Агесилай задумал открыть поход, по примеру Агамемнона, жертвоприношением в Авлиде. Но Авлида была на беотийской территории; Фивы, которым было суждено пожать плоды раздора между обоими могущественными греческими государствами, воспротивилась затее Агесилая, и она не удалась. Это авлидское жертвоприношение – последняя попытка использовать обаяние легенды о гегемонии Атридов, о которой мы знаем; в последовавшее время она окончательно отошла в область поэзии. Мифотворная сила греческого народа иссякла, и кредит политической мифологии был подорван навсегда.
VIII. Изложение наше зашло вперед, чтобы до конца проследить влияние политической эволюции на развитие интересующего нас мифа; теперь прошу читателя вернуться к тому месту, где у нас оборвалась нить развития нравственных идей в связи с развитием того же мифа. Дельфийская Орестея должна была возвестить миру две новые истины: во-первых, что право души на кровавую месть есть право священное и неукоснительное, кем бы ни приходился убийца мстителю; во-вторых, что Аполлон может очистить преступника во всяком случае, каким бы грехом он себя ни запятнал. Опасные последствия первой истины предупреждались второй: мститель терял право на кровавую месть, если убийца был очищен Аполлоном; но вторая истина делала Аполлона и его дельфийских заместителей руководителями совести всех верующих эллинов. Не встреть дельфийский бог отпора этим своим притязаниям – вся история греческой культуры получила бы сакральный, теократический характер; политикой Греции стала бы воля дельфийской коллегии, ее философией – дельфийские славословия в честь победы светлокудрого бога над великим Змеем, взлелеянным Землей.
Но он встретил отпор; встретил его со стороны Афин. Афиняне по-своему справились с пережитками анимизма в своих верованиях и обычаях. С одной стороны, врожденная их вдумчивость не дозволяла им одобрить исход, найденный беспечной и легкомысленной Ионией Гомера, – исход, при котором душа убитого являлась только объектом сделки между его убийцей и его ближайшим родственником, и причиненное последнему огорчение уравновешивалось соответственной суммой наслаждений: принимать виру считалось в Афинах таким же безнравственным поступком, как и в Дельфах. Но, с другой стороны, и найденный в Дельфах исход не соответствовал афинскому миросозерцанию, так как он оставлял без внимания одно из важнейших начал афинской души, то самое, которое сделало Афины источником человеческой культуры – гражданственность. При всем своем коренном различии ионийское и дельфийское решения задачи сходились в одном: согласно им, человек был в принципе чем-то обособленным и самодовлеющим. У ионийцев убийца имел дело исключительно с ближайшим родственником убитого; по дельфийскому учению, к этим двум сторонам прибавлялась третья – душа убитого, требовательная и мстительная; но ни там, ни здесь не принималась во внимание община, к которой принадлежал и убитый, и убийца, и мститель. В Афинах именно эта община заявляла о своих правах. Она говорила убийце: "человек, которого ты убил, был моим гражданином; убивая его, ты оскорбил меня"; она же говорила и мстителю: "человек, которого ты преследуешь, мой гражданин и стоит под моим покровительством; прежде чем допустить его преследование, я должна убедиться, что он виновен. Поэтому я намерена быть судьей между тобой и им; если я признаю его виновным, то он мною же будет наказан, но если я его оправдаю, то ты должен его пощадить". Этим в древнюю этику вводилось новое начало; вопреки притязаниям дельфийского бога, община себе присваивала отомщение и право воздать.
Вещественным символом этого права был афинский Ареопаг; великое значение этого старинного судилища состояло в том, что оно, творя строгий и правый суд по убийствам, делало невозможным и взаимное истребление граждан, требуемое древнейшим анимизмом, и нравственное их растление приниманием виры у свежей могилы убитого, дозволяемое ионийским рационализмом, и, наконец, унижение человеческой совести перед волей бога и его заместителя-жреца, проповедуемое в Дельфах. Произошло убийство – убийца и мститель являлись на Аресов холм; убийца становился на "камень Обиды", мститель на "камень Непримиримости"; оба излагали дело кратко, сухо, без всяких попыток выставить себя в хорошем свете и разжалобить судей – так требовал обычай. Выслушав обоих, коллегия судей-ареопагитов постановляла свой приговор по большинству голосов; если голоса разделялись, то полагали, что незримо присутствующая богиня-покровительница города, Паллада-Афина, присоединяла свой голос к тем, которые были поданы в пользу обвиняемого, и этот "голос Афины" его спасал. Вообще же, предвидя осуждение, преступник мог еще до конца следствия оставить город: жалкая участь изгнанника была почти равносильна смерти. Но если он был оправдан, то он возвращался к своему очагу и продолжал состоять под покровительством законов.
А душа убитого? Неужели афинский исход был возвращением к ионийскому рационализму? Нет; душа убитого или, вернее, ее заместительницы и заступницы Эринии предполагались присутствующими тут же в мрачной пещере под Аресовым холмом. Вырывая у них убийцу, община сознавала, что она навлекает на себя их гнев, что процесс между убийцей и мстителем еще не кончен, а лишь возведен на более высокую ступень, на которой сторонами будут она, сама община, и "благосклонные богини" (Евмениды), как их из уважения называли. Чтобы умилостивить их, им учредили культ, и этот культ был делом государства; от оправданного обычай требовал только скромного жертвоприношения в пещере Евменид, после чего он мог спокойно вернуться домой, в уверенности, что государство, оправдывая его, берет на себя его ответственность перед грозными силами преисподней.
Таков был исход, найденный в Афинах: гуманность, гражданственность и религиозность были им одинаково удовлетворены. Зато же и гордились Афины своим Ареопагом. Казалось невозможным, чтобы такое великое, благодетельное учреждение было создано людьми ради людей; сама Афина, гласило предание, учредила в своем любимом городе этот суд, чтобы рассудить двух богов, Посидона и Ареса, из которых первый обвинял второго в убийстве своего смертного сына. Так-то Арес согласился предстать перед судом; оттого-то, заключали далее, и само место суда получило имя "Аресова холма" – Ареопага.
Сознавали ли благочестивые афиняне VII и VI веков, что, прославляя свой Ареопаг, они подкапывались под самое основание могущества всеми чтимого дельфийского бога? Очень вероятно, что нет: совместимость противоречащих друг другу религиозных понятий свойственна человеку в эпоху юности его умственной культуры. Но долго она существовать не могла; при тщательности и глубине афинского мышления должна была наступить пора, когда противоречие сделалось очевидным, когда совести афинян был предоставлен выбор между двумя исходами – либо отказаться от суда Паллады, либо, удерживая его, вступить в открытую борьбу с дельфийским богом. Пора эта наступила тогда, когда нравственный антагонизм между Афинами и Дельфами обострился антагонизмом политическим. После всего, что было сказано выше, нам не покажется удивительным, что сражение было дано на почве все того же предания об Оресте-матереубийце; знаменосцем Паллады был в этом сражении родоначальник трагедии Эсхил.
IX. Нет надобности пересказывать содержание всей эсхиловой Орестеи. Само собою разумеется, что права царственного Аргоса были восстановлены афинским поэтом: не лаконские Амиклы, как твердили Дельфы в угоду своей союзнице Спарте, а аргосские Микены были признаны столицей вождя эллинов. Но в остальном Эсхил старался держаться, где только можно было, дельфийской Орестеи, чтобы тем резче оттенить различие в основном пункте. Ради этой своей главной цели он пожертвовал даже невинной передержкой, внесенной Писистратом в гомеровскую Орестею: не в Афинах, а у подножия святой горы Аполлона воспитывался Орест. Нужно было представить его любимцем и ставленником дельфийского бога для того, чтобы немощь этого бога выступила потом тем разительнее.