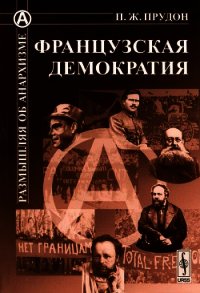Что такое собственность? - Прудон Пьер Жозеф (читать книги онлайн полные версии .TXT) 📗
Чудовища, которых последователи апостолов должны были уничтожить, напуганные ненадолго, исчезли, но потом постепенно, благодаря бессмысленному фанатизму, воскресли. Подчас же священники и богословы даже намеренно воскрешали их. История освобождения общин во Франции представляет собою постоянное восстановление справедливости и свободы в народе, вопреки усилиям короля, дворянства и духовенства. В 1789 году после Р. Х. французская нация, разделенная на касты, бедная и угнетенная, билась под тройным гнетом королевского абсолютизма, тирании сеньоров и парламентов и религиозной нетерпимости. Существовало право короля и право священника, право дворянина и право разночинца; существовали привилегии по рождению, привилегии провинциальные, коммунальные, корпоративные и цеховые. И в основе всего этого лежали насилие, безнравственность и нищета. Ходили слухи о реформах; те, кто, по–видимому, наиболее стремился к ним, желали осуществления их только ради собственных выгод. Народ, который должен был больше всего выиграть от них, не ожидал от них ничего особенного и молчал. Долго этот бедный народ не то от подозрительности, не то от недоверия или отчаяния колебался встать на защиту своих прав. Казалось, что привычка к рабству лишила смелости эти старинные коммуны, такие гордые в средние века.
Но наконец появилась книга, все содержание которой резюмировалось в следующих двух предложениях: «Что такое третье сословие?» – «Ничто». – «Чем оно должно быть?» – «Всем». Кто–то прибавил в форме комментария: «Что такое король?» – «Уполномоченный народа» [13].
Это было внезапным откровением: разорвалась великая завеса, с глаз народа спала густая пелена, народ стал рассуждать:
Если король – наш уполномоченный, он должен отдавать нам отчет.
Если он должен отдавать нам отчет, он, следовательно, подлежит контролю.
Если он подлежит контролю, то он ответствен.
Если он ответствен, то и наказуем.
Если он наказуем, то наказуем по своим заслугам.
Если же он наказуем по своим заслугам, то может быть приговорен и к смерти.
Пять лет спустя после выхода в свет брошюры Сиейеса третье сословие сделалось всем. Король, дворянство, духовенство перестали существовать. В 1793 году народ, не подчиняясь конституционной фикции о неприкосновенности суверена, возвел Людовика XVI на эшафот; в 1830–м он проводил Карла X в Шербург. В том и в другом случае он мог ошибиться в оценке преступления, это было бы фактической ошибкой, но в смысле правовом логика его поступков была безукоризненна. Народ, наказывая суверена, делал именно то, в упущении чего так часто упрекали июльское правительство, которое после попытки восстания в Страсбурге не сделало того же с Людовиком Бонапартом: народ наказал истинного виновника. Это было применение обычного права, торжественное провозглашение справедливости в наказания [14].
Дух, вызвавший движение 1789 года, был дух противоречия. Этого достаточно для того, чтобы показать, что порядок вещей, заменивший старый порядок, был не методичен и не обдуман, что, рожденный из ненависти и гнева, он не мог подействовать как наука, основанная на наблюдениях и исследованиях, что, одним словом, основы этого порядка не были выведены из глубокого знакомства с законами природы и общества. Поэтому в так называемых новых учреждениях, созданных республикой, мы находим те же самые принципы, против которых она боролась, влияние тех же самых предрассудков, которые она хотела уничтожить. Люди с легкомысленным восторгом говорят о славной французской революции, о возрождении 1789 года, о великих реформах и об изменении учреждений. Все это только ложь!
Когда, вследствие сделанных нами наблюдений, наши понятия о каком–нибудь физическом, интеллектуальном или социальном явлении меняются коренным образом, я это уже называю движением революционного духа. Когда налицо имеется только изменение или расширение наших идей, то я это называю прогрессом. Так, например, система Птолемея была прогрессом в астрономии, открытие Коперника – революцией. Так же точно в 1789 году совершалась борьба и прогресс, но революции не было; это можно доказать путем рассмотрения реформ, которые пытались провести тогда.
Народ, бывший долгое время жертвой монархического эгоизма, думал избавиться от него, заявив, что он один суверенен. Но что такое монархия? Это суверенность одного человека. Что такое демократия? Суверенность народа или, вернее, большинства народа. И в том и в другом случае это суверенность человека вместо суверенности закона, суверенность воли вместо суверенности разума, – словом, суверенность страстей вместо суверенности права. Несомненно, когда народ переходит от монархизма к демократизму, совершается прогресс, ибо, устраняя единоличного суверена, люди увеличивают шансы разума победить волю. Однако революции в управлении нет, так как принцип остается прежний. Мы теперь имеем самые ясные доказательства того, что даже при самой совершенной демократии можно не быть свободным [15].
Это еще не все. Народ–король не может сам обнаруживать своей суверенности. Он должен передать ее лицам, облеченным властью. Это усердно повторяют ему те, кто старается попасть к нему в милость. Пусть таких лиц будет 5, 10, 100, 1000, – ни число их, ни имена не имеют значения. Всегда это будет правление человека, царство воли и произвола. Что же, спрашивается, революционизировала так называемая революция?
Известно, впрочем, как эта суверенность проявлялась сначала Конвентом, затем Директорией и наконец Консульством. Император, человек сильный, столь обожаемый и столь оплакиваемый народом, никогда не хотел подчиняться его суверенности. Но как бы намереваясь бравировать ею, он осмелился прибегнуть к голосованию народа, т. е. потребовать от него отречения, отречения от этой самой неприкосновенной суверенности. И он достиг этого.
Но что же, наконец, такое суверенность? Это, говорят, есть власть издавать законы [16]. Вот вам новый абсурд, позаимствованный у деспотизма. Народ видел, как короли мотивировали свои ордонансы – формулой: ибо так нам угодно. Он в свою очередь захотел испытать удовольствие издавать законы. В течение пятидесяти лет он создал их мириады, всегда, конечно, при посредстве своих представителей; удовольствие это до сих пор еще не кончилось.
Впрочем, определение суверенности само собой вытекает из определения закона. Закон, говорят, есть выражение воли суверена. Таким образом, при монархии закон есть выражение воли короля; в республике – выражение воли народа. Если оставить в стороне число воль, то обе эти системы окажутся совершенно идентичными: и в том и в другом случае одинаково существует заблуждение, так как считают закон выражением воли, тогда как он есть выражение факта. Между тем руководители были хороши, ибо пророком явился женевский гражданин, а Алькораном – его «Общественный договор» [17].
Предрассудки и предубеждения на каждом шагу обнаруживаются под риторикой новых законодателей. Народ страдал от множества исключений и привилегий; его представители сделали от его лица следующее заявление: «Все люди равны от природы и перед законом»; заявление это двусмысленное и чересчур многословное. Люди равны от природы, значит ли это, что все они одинакового роста, одинаково красивы, одинаково гениальны и добродетельны? Нет, имелось, следовательно, в виду определить политическое и гражданское равноправие; но в таком случае было бы достаточно сказать: «Все люди равны перед законом».
Но что такое равенство перед законом? Ни конституция 1790 года, ни конституция 1793–го, ни дарованная хартия, ни хартия принятая не сумели дать его определения. И та и другая хартии предполагают существование неравенства имущественного и сословного, наряду с которым невозможна даже и тень равенства прав. С этой точки зрения можно сказать, что все наши конституции были верным выражением народной воли. И я это докажу.