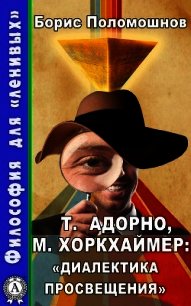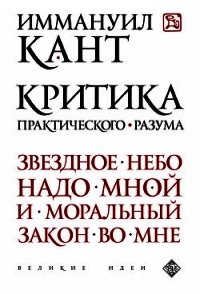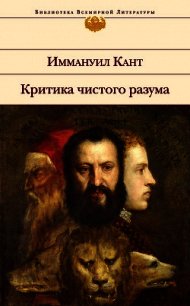Век просвещения и критика способности суждения. Д. Дидро и И. Кант - Библер Владимир Соломонович (читать книги txt) 📗
Кант превратил культуру Просвещения в постоянное предчувствие, своеобразную <синюю птицу> просвещенного вкуса.
<Часто приходится слышать: это хорошо, но это вчерашний день. А говорю: вчерашний день еще не родился. Его еще не было по — настоящему. Я хочу снова Овидия, Пушкина, Катулла, и меня не удовлетворяет исторический Овидий, Пушкин, Катулл… Это свойство всякой поэзии, поскольку он классична. Она воспринимается как то, что должно быть, а не как то, что уже было… Ни одного поэта еще не было. Мы свободны от груза воспоминаний. Зато сколько редкостных предчувствий: Пушкин, Овидий, Гомер> [28].
В контексте причинных определений Просвещение, конечно, возникл единожды, под влиянием сложнейших социальных сил, общественных отношений.
И в этом контексте итогом Просвещения была Французская революция. Но вернемся к проблемам культурной целостности. Возникнув в ход социального развития, культура Просвещения, как и любая другая культура, начинает затем определяться своим собственным смыслом и, превращается в <образ культуры>, действует — в веках — как особый субъект деятельности, Смысл этой культуры, как смысл любого культурного феномена, не може быть объяснен причинами его возникновения. В этом плане именно Кан или Гегель — или, если взять совсем в другом разрезе, Пушкин — был творцами культуры прошедшего века — XVIII — го. Они, участвуя в создани века XIX — го, превращали историческую феноменологию Просвещения нечто культурно непреходящее, в источник бесконечного культурного обновления.
Вот почему именно в свете кантовской <Критики способности суждения> (и вообще <Критик> Канта) можно понять не только своеобразие просвещенного вкуса, но сам век Просвещения, саму идею Просвещения ка культуроформирующую идею. Я сказал, что такую роль могут сыграт <Критики> Канта вообще, и все же это не точно. <Критика способности суждения> имеет здесь особенное значение. Особый смысл.
<Критика способности суждения> (1790) — последняя <Критика> Канта — до сих пор остается философской загадкой. В гигантской <Кантиане> она все время выглядит как‑то очень неустроенно. С трудом влезает в общую схему <Критик>. Делает непоследовательными, неясными, незаконченными и <Критику чистого разума>, и <Критику практического разума>. Грандиозная систематика Канта в <Критике способности суждения> как‑то н срабатывает, рассыпается в отдельные тонкие парадоксы и афоризмы. В этой последней <Критике> начинается — по мнению историков философии — упадок творческих сил Канта, особенно резко проявленный в <Антропологии…>. Я сейчас не думаю вдаваться в философский спор. На мой взгляд, кстати, и <Антропология> Канта недооценена. И без нее кантовска система в целом будет понята неверно, схоластически. Что же касается <Критики способности суждения>, то, может быть, она и загадочна, но, перефразируя слова Маркса о <Феноменологии духа> Гегеля, можно сказать, что именно в этой последней кантовской <Критике> заключены тайны исток всей кантовской философии в целом. Дело не в том, что сама эта <Критика> непонятна и загадочна. Дело как раз в том, что она сдвигает всю кантовскую систему и показывает загадочность и странность остальных кантовских <Критик>, не позволяет — к счастью! — свести концы с концам в отношении теоретического и практического разума и тем самым раскрывает действительный, а не школьный смысл философии Канта.
<Критика способности суждения> наиболее точно показывает историческую определенность тех философских проблем, которые стояли пере Кантом. Проблемы эти, на мой взгляд, сосредоточиваются как раз в самокритике культуры Просвещения.
Философской сверхзадачей Канта является превращение способности суждения в <образ культуры>. И критика чистого, и критика практическог разума понадобились именно для этой цели.
Я высказал сейчас много утверждений, которые отнюдь не собираются доказывать в дальнейшем, но все же высказать их было необходимо. Последующий текст, непосредственно касающийся той схематизации, которой подвергнутся у Канта парадоксы просвещенного вкуса, этот текст читателю необходимо все же вписать в намеченный выше общетеоретический контекст.
И в таком контексте, по — моему, обнаружится (если высказать последнее замечание о философии Канта в целом), что анализ способности суждения не только подводит итоги кантовской критике чистого и практического разума, не только пытается согласовать противоречие между этим двумя классическими критиками; способность суждения является вместе тем исходным предметом анализа, той сферой духовной деятельности человека, которая, по Канту, в собственном своем развитии неизбежно раздваивается на чистый теоретический разум и на разум практический.
Но перейдем к характеристике некоторых исходных определении <Критики способности суждения>. (Конечно, я буду касаться этого вопрос лишь в той мере, в какой это существенно для нашей темы, для понимании особенностей века Просвещения как образа культуры, для дальнейшего анализа тех парадоксов просвещенного вкуса, которые были только что фиксированы в <Салонах> Дидро.)
Читатель, наверное, помнит еще, что в первом средоточии парадоксов просвещенного вкуса (парадоксов Дидро) мы обнаружили несоответствие, несогласованность двух эстетических идеалов. Просвещенный вкус требует, чтобы, к примеру, произведение искусства было верно природе вещей, но он же требует, чтобы это произведение воплощало классическую, античную форму, <лживую> (!) по отношению к природной правде.
Этот начальный парадокс просвещенного вкуса переосмысливается Кантом как определяющее условие самого формирования способности суждения вообще и как объяснение того, почему способность суждения имеет в нашем интеллектуальном арсенале самостоятельное место наряду с рассудком и разумом или, говоря более широко, наряду с такими основным способностями человеческого духа, как познание и желание.
Приведем несколько выдержек из Канта. <..Две различные области, беспрестанно ограничивающие себя (законодательства свободы и законодательства природы… рассудка и практического разума… науки и нравственности… — В. Б.), …не составляют нечто единое… Хотя между область понятия природы- и областью понятия свободы-, лежит необозримая пропасть, так что от первой ко второй (следовательно, посредством теоретического применения разума) не возможен никакой переход, как если бы это были настолько различные миры, что первый не может иметь никакого влияния на второй, тем не менее второй должен иметь влияние на первый, именно понятие свободы должно осуществлять в чувственно воспринимаемом мире ту цель, которую ставят его законы…> " [29].
Прервем на этом месте цитату, хотя для нас самое существенное начнется как раз после многоточия. Но, чтобы понять это <самое существенное>, подчеркну следующее.
Во — первых, кантовский индивид не поглощается полностью двум сферами своей деятельности (теоретической и практической), он находится как бы между ними, он существует (но действует ли?) в этой само пропасти между сферами познания и желания. Я обращаю на этот момент внимание читателя, потому что само это пребывание познающего и желающего индивида в некоем междумирии дает возможность предположит еще одну, иную форму человеческой свободы, чем та свобода в области практического разума, в сфере нравственного долга, которую обычно замечаю исследователи Канта и которая столь подозрительно связана с категорическим императивом, с железной необходимостью долженствования.
Во — вторых. Можно заметить, что кантовская симметрия между миро свободы и миром природы не выдержана до конца. Если мир природы никак не должен и не способен влиять на сферу свободной деятельности человека, то сама это свободная деятельность (сфера нравственности, сфер свободы) должна — по Канту — каким‑то образом накладываться на природные законы. Без такого проецирования идей свободы в сферу природных закономерностей деятельность человека вообще была бы бессмысленна. Зачем же действовать — по отношению к пресловутой вещи в себе, если наверняка известно, что всякий результат моего действия будет неопределенным, неизвестным..