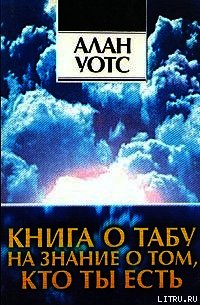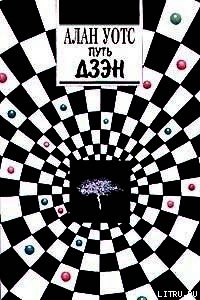Космология радости - Уотс Алан (читать книги полностью .TXT) 📗
Иногда образ физического мира — это не столько танец жестов, сколько хитросплетение фактур. Свет, звук, прикосновение, вкус и запах становятся основой ткани, и возникает чувство, что все измерения ощущений представляют собой единый континуум или поле. Пересекает основу ткани уток [5], представляющий измерение смысла — моральных и эстетических ценностей, личных и общественных предпочтений, логического значения и экспрессивной формы. Эти два измерения пронизывают друг друга так, что различающиеся формы кажутся рябью на поверхности единого потока восприятия. Основа и уток текут вместе, поскольку ткань не одномерна и статична, а является многомерным хитросплетением импульсов, заполняющих собой всю емкость пространства. — чувствую, что мир пребывает на чем-то, на плотном потоке энергии — во многом подобно тому, как цветная фотография находится на пленке, которая соединяет разноцветные пятна. Но сразу же после этого я вижу, что мир пребывает на моем мозге — на “том волшебном инструменте”, как его назвал Шеррингтон. Мозг и мир, основа ощущений и уток смысла, кажется, нерасторжимо проницают друг друга. Они имеют общие границы и очертания и тем самым не только определяют друг друга, но и становятся раздельно немыслимыми.
Я слушаю органную музыку. Подобно тому, как создается впечатление, что листья жестикулируют, мне кажется, что орган буквально говорит. Этот голос звучит без пауз, но каждый звук, сдается мне, порожден человеческим горлом, увлажненным слюной. Когда органист, играя на педали, движется вниз по звуковой гамме, мне кажется, что звуки раздуваются в величественные, тягучие звуковые кляксы. Когда я прислушиваюсь внимательнее, эти кляксы приобретают фактуру — становятся похожими на расходящиеся круги вибраций и напоминают чем-то ровные густые гребни, больше уже не увлажненные, как живое горло, а механически разрывные. Звук распадается на бесчисленные индивидуальные дррриты вибраций. — слушаю дальше, и фактура снова исчезает, или, быть может, это каждая отдельная дрррита становится в свою очередь кляксой. Водянистое и жесткое, протяженность и разрывность, липкое и колкое — эти противоположности становятся проявлениями друг друга, разными уровнями выражения одного и того же.
Эта тема повторяется сотней разных способов — неразделимая полярность противоположностей, взаимность и соответствие всех возможных проявлений сознания. Теоретически легко видеть, что все ощущения построены на контрасте — фигуры и фона, света и тени, ясного и смутного, твердого и мягкого. Однако нормальное внимание, кажется, встречает трудности с тем, чтобы вместить одновременно и то и другое. И в ощущениях, и в мыслях мы чаще всего переходим поочередно от одного к другому; может показаться, что мы не можем сосредоточить внимание на фигуре, не переставая при этом осознавать фон. Однако в этом новом мире взаимодополняемость вещей становится очевидной на всех уровнях. Лицо человека, например, становится очевидным во всех своих аспектах — это целостная картина, включающая в себя все волоски и морщинки. Лицо становится одновременно всех возрастов, поскольку все то, что говорит о старости, одновременно свидетельствует и о молодости; в костях черепа сразу же угадывается новорожденный младенец. Ассоциации, порождаемые нашим мозгом, кажется, возникают не последовательно, а все вместе. При этом у нас может создаваться впечатление, что жизнь пугает своей многозначностью или же радует своей целостностью.
Принятие решений может оказаться полностью парализованным внезапным осознанием, что нельзя иметь хорошее без плохого, или же что невозможно последовать чужому совету, не решившись вначале сделать это. Если здравомыслие подразумевает безрассудство, а вера — сомнение, не являюсь ли я на самом деле сумасшедшим, который прикинулся душевно здоровым, пугливым дурачком, которому все же кое-как удается имитировать самоконтроль? — начинаю видеть свою жизнь как шедевр двойственности — смущенный, беспомощный, голодный и болезненно чувствительный маленький эмбрион глубоко внутри меня постепенно научился соглашаться, заверять, стращать, ублажать, льстить, брать на пушку и обманывать с тем, чтобы его принимали за компетентную и заслуживающую доверия личность. Но ведь, если разобраться, что каждый из нас знает?
Я слушаю, как священник солирует в Мессе в сопровождении хора монахинь. В звучании его зрелого, поставленного голоса чувствуется незыблемый авторитет единой святой католической и апостольской Церкви, великой веры, данной раз и навсегда святым — и ему вторит несколько простодушное, невинно преданное пение монахинь. Однако, прислушиваясь к пению дальше, я понимаю, что священник “напускает на себя вид”, я слышу, как он раздувает, словно воздушный шарик, свой высокомерный голос. Мне кажется, что это вкрадчивый голос опытного обманщика, запугавшего бедных монахинь, которые на хорах стоят на коленях. Слушай глубже! Монахини совсем не запуганы. Они только прикидываются наивными. Немного смести угол зрения, и вялый поклон превратится в сжатие клешни. Здесь очень мало мужчин, и монахини знают, что делают. Они знают, как нужно поклониться, чтобы выжить.
Однако это циничное видение положения вещей — всего лишь промежуточная стадия. Мне хочется выразить свое восхищение священнику за его притворство, за его умение создать видимость авторитетности, тогда как в действительности он ничего не знает так же, как и я. Возможно, не существует другого знания, кроме решимости действовать. Если в глубине нашего естества нет подлинного “я”, верным которому нужно оставаться, искренность — это всегда маска; за нею стоит решительное и беззастенчивое стремление притворяться.
Однако притворство является притворством только в том случае, когда считается, что поступок не соответствует подлинному намерению действующего. Найди действующего! Глубоко в голосе священника я слышу рычание первобытного зверя в джунглях, однако это рычание подавлено, усложнено, утончено и преображено тысячелетиями культурной жизни. Каждое новое искажение, каждая дополнительная тонкость были новыми ставками в игре, смысл которой в том, чтобы сделать первобытное рычание более впечатляющим. Но это тот же самый грубый и неприкрытый вой самца в поисках пищи или самки, или же рык удовлетворения, от которого сотрясаются горы. Затем это рычание приобретает ритм, чтобы очаровывать, затем оно меняет тон, чтобы умолять или угрожать. Затем появляются слова, чтобы сообщить о нужде, обещании, сделке. И только потом, намного позже, начинаются притворные игры. Здесь и женская стратегия побеждать, уступая; и притязание на высшую добродетель, основанное на отречении от мира во имя духа; и уловка слабости, на поверку оказывающейся сильнее мощи мышц; и блаженство кротких, которые унаследуют землю.
Я слушаю дальше и теперь слышу, как в одном этом голосе одновременно говорят все уровни человеческой истории, а также все стадии эволюции человека. Каждая стадия становится такой же явной, как одно из годичных колец на поперечном срезе дерева. Однако все это — лишь иерархия уловок, стратегии венчающие стратегии, но под всеми наслоениями утонченности все еще звучит первобытное рычание. Иногда это рычание из брачного воя взрослого животного становится беспомощным плачем младенца, и тогда я чувствую человеческую музыку — со всей ее пышностью и изощренностью, с ее радостью, ужасом и самодовольной торжественностью — как чрезвычайно усложненный и подавленный плач ребенка по матери. Но когда мне хочется заплакать от жалости, я понимаю, что жалко мне самого себя. Я, взрослый человек, тоже вою во тьме подобно тому, как первобытное рычание все еще звучит под утонченными модуляциями церковного пения.
Ты бедный ребенок! Но в то же время ты маленький корыстный шельмец! Когда я пытаюсь найти действующего за действием, мотивацию в основе всего, мне кажется, что я вижу только бесконечную двойственность. Под маской любви я нахожу прирожденный эгоизм. В какое интересное положение я попадаю, когда кто-то спрашивает: “Действительно ли ты любишь меня?” — не могу сказать “да”, не подразумевая “нет”, поскольку единственным удовлетворительным ответом может быть: “Да, я люблю тебя так, что могу съесть тебя! Моя любовь к тебе неотделима от моей любви к себе. Моя любовь к тебе — чистейший эгоизм”. Никто не хочет, чтобы его любили из чувства долга.