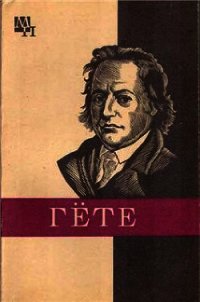Два интервью - Свасьян Карен Араевич (книги без сокращений TXT) 📗
Д.Ф. Многое еще зависит от типа личности самого переводчика, от того, как сам он слышит Ницше, какие аспекты в нем выделяет, какие недопонимает. Например, Вадим Бакусев переводит Ницше именно досконально, точно, «объективно» выверяя его согласно немецкому звучанию. Как выразился однажды Сергей Жигалкин, это некая идеальная машина по переводу, которая неизбежно упускает многие духовные нюансы, которые находятся как бы за текстом, вне текста, на втором плане текста. А вот Игорь Эбаноидзе переводит Ницше очень прочувствованно, можно сказать душевно, несколько смягчая его немецкую твердость в русском языке. Думаю, что задача аутентичного перевода могла быть решена только в случае появления в России блестящего переводчика, точно соответствующего по складу характера, темпераменту и типу личности самому Ницше.
Ваши переводы Ницше ведь тоже войдут в ПСС. Видите ли вы необходимость их доработки?
К.С. Да, работа идет, мы с Игорем редактируем мои переводы. Он присылает мне свои правки, и с большинством из них я соглашаюсь.
Д.Ф. В прошлом году в России вышла книга Рудольфа Штейнера «Ницше – борец против своего времени», куда вошли еще и более поздние статьи Штейнера о Ницше. Я прочитал эту книгу. Я понимаю, что Вы находитесь под сильным влиянием отношения Штейнера к Ницше, и поэтому хотел бы спросить у Вас, происходят ли у Вас какие-то внутренние изменения в этом отношении. Заостряя вопрос, мне хотелось бы лучше понять соотношение Вашей очевидной любви к Ницше и Вашей установки поправить его, порой даже упрекнуть его в ошибках.
К.С. Меня интересует феноменология события Ницше. Как можно, живя в мысли, сойти с ума?
Д.Ф. Вмешались не мыслительные, бессознательные процессы психики.
К.С. Нет, у Ницше это чисто мыслительная ситуация, которая меня интересует. Все догадки и домыслы о его болезни, растиражированные, скажем, Томасом Манном, – это журналистская ерунда. Kазус Ницше – чистая патология мысли. Но, наверное, Вы правильно поймете меня, если я скажу, что сойти с ума, значит потерпеть поражение. Это, если хотите, как в боксе: не мыслитель справляется с проблемой, а проблема нокаутирует его.
Д.Ф. Т.е. Ницше не справился с поставленными им самим проблемами?
К.С. Да, не справился. Но Вы напрасно приписываете мне установку поправлять его или даже упрекать в ошибках. Этого у меня нет, как нет, впрочем, и ницшезависимости, когда сидят на нем как на игле. Единственное, что я хочу понять: что именно довело его до сумасшествия, нокаутировало его, так сказать, и можно ли было этого избежать.
Д.Ф. Да, Вы уже говорили это. Как быть Ницше, не сходя при этом с ума.
К.С. Однажды в молодые годы, заполняя одну дружескую веселую анкету, на вопрос: кем бы ты хотел быть, если не самим собой? Штейнер ответил: Фридрихом Ницше до безумия. Годы моих занятий Штейнером привели меня к поразительному узнанию, которое едва ли понятно тому, кто не прожил с этим и этим, как я, десятилетия: будь Ницше знаком с работами Штейнера, прежде всего с «Очерком теории познания гётевского мировоззрения» и «Философией свободы», этой катастрофы с ним бы не случилось. Штейнер вбирает в себя Ницше со всей его проблематикой и патологией, отождествляется с Ницше, как врач с больным, и не только не сходит при этом с ума, но и выводит Ницше в здоровье: не в плоское витальное здоровье, а в то самое, о котором Ницше мечтал и грезил.
Д.Ф. Я вспоминаю сейчас Вашу лекцию в Московском университете «Конец истории философии». Там Вы, как философ, утверждали, что философия мертва, и призывали философов не отделять себя от своих мыслей, жить ими, в них, им соответствовать. В конце лекции Вы привели пример Майнлендера, который, получив авторские экземпляры своей книги «Философия искупления», поставил их стопочкой, чтобы дотянуться до приготовленной веревки, и повесился, реализовав тем самым главную идею своей собственной книги. Я тогда подумал, что было бы, наверное, очень правильно, если бы кто-нибудь, например, Я, подошел бы сразу по окончании лекции к Вам и застрелил бы Вас прямо за кафедрой, с которой Вы читали свою лекцию. Философ, прочитавший лекцию о «Конце истории философии», был бы застрелен в точном соответствии с главной идеей своей лекции. Таким образом, убийца помог бы Вам войти в точное соответствие со своими идеями о том, что «философия мертва», убив, сделав мертвым возвестившего об этом философа.
К.С. Вы хорошо сделали, что не сделали этого. Потому что это была бы ошибка. Я говорил о смерти философии, и понятно, что делать это я мог только как философ. Но ведь не казнят же гонца за весть, которую он приносит. Я – просто гонец, кирик, сообщающий о некоем событии. Что делать с этим известием дальше, пусть каждый решает для себя. Моё дело принести весть. Кстати, после лекции многие слушатели были обескуражены и спрашивали меня, а что же им, философам, делать после такого известия.
Я им говорил: не принимайте на свой счет и продолжайте быть дальше.
Д.Ф. Нет, Вы не просто гонец. Вы сам философ, который должен жить в соответствии со своими идеями (ибо такова Ваша идея), так что убить Вас после этой лекции было бы очень даже правильно, если, конечно, Вы тут же бы не перестали быть философом, и стали кем-нибудь другим. Например, молочником. А может Вы могли бы начать писать такие особые рассказы, которые смогли бы снова вернуть философию к жизни?
К.С. Уверяю Вас, что убить меня было бы ошибкой. Сделай Вы это тем не менее, у Вас было бы достаточно (тюремного) времени, чтобы понять это. Потому что, сказав о смерти философии, я (как раз в Вашем смысле) и стал кем-то другим, пусть не молочником, но другим (а вот кем, простите, не скажу). Так что, убив меня, Вы убили бы ни в чем не повинного, а главное, хорошего человека.
Д.Ф. Но если философии больше нет, то как можно назвать тех, которые продолжают размышлять над самыми трудными проблемами жизни? Неназванные дальние Ницше? Единственные в своем роде Штирнера?
К.С. Нет. Позвольте, я отвечу цитатой из Борхеса. Она несколько длинная, но достаточно точная (прямой ответ на Ваш вопрос в последнем абзаце): «Контакты с Тленом и привычка к нему разложили наш мир. Очарованное стройностью, человечество все больше забывает, что это стройность замысла шахматистов, а не ангелов. Уже проник в школы «первоначальный язык» (гипотетический) Тлена, уже преподавание гармоничной (и полной волнующих эпизодов) истории Тлена заслонило ту историю, которая властвовала над моим детством; уже в памяти людей фиктивное прошлое вытесняет другое, о котором мы ничего с уверенностью не знаем — даже того, что оно лживо. Произошли перемены в нумизматике, в фармакологии и археологии. Думаю, что и биологию, и математику также ожидают превращения… Рассеянная по земному шару династия ученых одиночек изменила лик земли. Их дело продолжается. Если наши предсказания сбудутся, то лет через сто кто-нибудь обнаружит сто томов Второй энциклопедии Тлена.
Тогда исчезнут с нашей планеты английский, и французский, и испанский языки. Мир станет Тленом. Мне это всё равно. В тихом убежище отеля в Адроге я занимаюсь обработкой переложения в духе Кеведо (печатать его я не собираюсь) „Погребальной урны" Брауна» .
Д.Ф. Давайте вернемся к теме Ницше и Штейнер. Меня очень удивил разворот Штейнера к Ницше после его первой и по сути апологетической книги о Ницше. Вы можете как-то пояснить эту ситуацию?
К.С. В этом вопросе, как, впрочем, и в любом другом, очень важно выбрать адекватный подход, то есть, вовремя и точно войти в тему. Когда говорят о Штейнере, следует прежде всего учесть, что речь идет о совершенно необычайном человеке. Что значит необычность? Вы можете представить себе человеческое сознание, в котором живут, а значит и осознают себя умершие? Для нас с вами это мифология. Но попробуйте принять это как факт. Это основа, на которой только и может состояться какой-либо осмысленный разговор о Штейнере. Его внутренний мир, его сознание, чувства, мысли суть между прочим (о прочем я умолчу) умершие, которыми он вовсе не одержим, потому что несет их в себе как собственные нормальные состояния сознания.