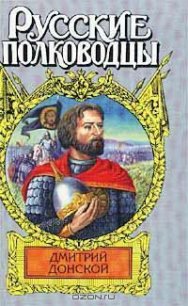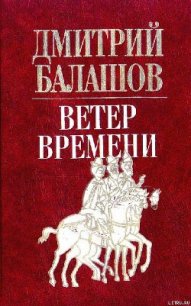Великий стол - Балашов Дмитрий Михайлович (читать полную версию книги TXT) 📗
Что мог ответить ему Петр? Оспорить слова Христа, сохраненные Евангелием? Отринуть светлую мечту мирной и дружной жизни народив? Нет, ни отвергнуть Христа, ни оспорить красоты всеобщего мира не мог, да и не хотел преосвященный Петр. Но он сказал другое. Он напомнил иное многое, что есть в благовествованиях евангелистов. О несовершенстве людей. О грехе. Наконец о том, что народы всегда различны и живут своим побытом и навычаем, несходным с иными. Одни пашут и сеют зерно, другие пасут скот, третьи мореходствуют и ловят рыбу. И учение любви могут они все принять только через любовь, а не через принуждение. И все равно – останутся сами собою. Ибо море и суша, горы и пустыни, лес и степи не переменят места свои и не съединятся в одно. И что есть научение всех единой вере и единому способу жизни, как не суета и не обман, ибо одним то будет легко, и они взвеселятся и возликуют и умножатся и распространятся по земле, яко песок морской, а другим станет неудобно и утеснительно, и эти почнут умирать, и терпеть муки, и служить тем, удачливым и веселым. Не худшее ли рабство воцарит в этом едином собрании разных народов и племен? И кто может поклясться и сказать: «Клянусь Богом, что законы, утвержденные смертными людьми, что власть, установленная немногими для многих, будут справедливы и мудры для всех и на все века?» Да ежели бы возможна была на земле такая гармония, сходная с гармонией ангелов, так давно уже божьим соизволением и возникла бы она! Однако зрим мы иное. В борениях и скорби, в долгом непрестанном мужествовании творится справедливость и сама жизнь на земле. И не может быть правды там, где не разрешено или невозможно станет биться за правду! И не может быть равенства там, где не будет воли, и не царство божие на земле, – царство антихриста проповедуют такие, как сей муж, по тщанию коего должна православная вера уступить место «вере арабов». Пусть каждый народ идет к Богу своим путем, и тогда это будет путь сердца, а не принуждения, путь радости и любви, а не насилия и скорби. И сколько бы на пролилось крови и слез на этом пути, – в борьбе ли народов, в бореньях ли властителей, – все же это будет лишь малая капля по сравнению с тем угнетением духа, теми муками и теми смертями инакомысленных, что льстиво предлагает сей проповедник и присные его!
Вот что мог и должен был ответить Петр, ибо сказать прямо, что проповедь Сеита направлена к тому, чтобы духовно подчинить Русь хану Золотой Орды и растворить русичей среди прочих народов Дикого поля, – сказать так прямо он не мог, хоть и без того понимали все, что речь идет именно об этом – о том, будет или не будет существовать в веках Русь? И это решалось прежде всего верою, а не борьбою князей за власть над владимирским столом.
И еще был в споре сем один собеседник, соболезнующий Петру, что тоже подал голос свой за разность вер и неслиянность племен и религий, хоть он и не произнес ни слова, и даже видом своим не смутил тяжущихся, но самою участью своею свидетельствовал зато в пользу митрополита. Собеседником этим был замученный в Орде и причтенный русскою церковью к лику святых Михаил Ярославич Тверской.
Глава 55
– Князю Юрию Даниловичу!
– Здрав буди! Здрав буди!
Гремят и плещут чары и чаши. Звонкой медью, серебром и рыбьим зубом, резным капом, в серебро оправленным, златом в каменьях и жемчугах и даже бесценным стеклом веницейским сверкает и искрится праздничный стол. Под кабаньими тушами, навалами жареной дичи, под чудовищными, в сажень длиной, копчеными осетрами, алыми горами резаной семги, пирогами, серебряными бочками стерляжьей ухи, щей, густого мясного хлебова, под точеными аршинными мисами с белою, сорочинского пшена, кашею, вдосталь начиненною винными ягодами и изюмом, стонут и ломятся дубовые столы. По просторной тесовой палате на два света, под неохватными брусьями высокого гладкотесаного потолка волнами прокатывают веселье и клики. Встают, подымая заздравные чары, приветствуют князя бояре, купцы, житьи и старосты ремесленных братств Господина Великого Новгорода. Откидывая долгие рукава опашней, выпрастывают руки в белом тонком полотне, в шелку, в парчовых наручах и перстнях, тянут чарами ввысь. И лица в улыбках, и грозно-задорные хмельные взоры – и всё к нему, для него! А Юрий – распахнутый, сияющий, солнечный, лучится весь, весь из счастья и светлоты – кого-то обнимает, с кем-то целуется и пьет. Тут не надо думать, гадая: как теперя быть и что делать? Тут сами не дураки, подскажут!
Жизнь положив в споре за высшую власть, Юрий был по поваде своей скорее исполнитель замыслов, чем творец. Ему, чтобы действовать, нужно было не задумывать о самом главном. Высшие причины действования были для Юрия звук пустой. Было родовое: не упустить великий стол из семьи потомков Невского, – и дрался. Можайск, Коломна, Переяславль – все то было исполнением или продолжением замыслов Данилы. Даже то, как справиться с Михайлой Тверским, свалив на него гибель Кончаки, подсказал Юрию Кавгадый. И теперь, в Новгороде, его ласкают, и дарят, и чествуют, как великого князя владимирского и новгородского тож (еще Дмитрий не добрался до хана, и еще ярлык не передан тверским князьям!), и среди пиров и утех шепчут ему в уши, и он, милостиво соглашаясь, кивает головой: «Свея так Свея! И под Выборг пойдем, свею выбивать!» И переглядываются, подмигивая, новгородские вятшие мужи – по-ихнему вышло! На лето назначен поход, и полки великого князя уже вызваны в Новгород.
И уже когда, отпировав и отгуляв вдосталь, вошли в скалистую и песчаную, сплошь в красных сосновых борах, землю Суоми, настигло Юрия известие о решении хана. Но и здесь, посвистывая и зло узя глаза, не упал он духом. Про себя крепко-таки ругнул Узбека: «За две тысячи тверского серебра ярлык отобрать! Хорош родственничек!» Поморщился, вспомнив, что Кончаки-то нет. «Ну и жадна была на ласки татарка! Не умори ее Кавгадый, замучила бы вконец!»
Под Выборгом стояли чуть не весь август. Били стены пороками, ходили на приступы. Взяли окологородье, испустошили всю волость вконец. Крепости, однако, взять не смогли. Свеи защищались отчаянно. Девятого сентября сняли осаду и, волоча обозы с добром, потянулись назад.
В Новгороде ожидал Юрия строгий вызов хана Узбека. Большой охоты идти в Орду сейчас, под первый гнев хана, не было, но ханский посол Ахмыл натворил, передавали, много пакости по Низовской земле, взял и пограбил Ярославль, иссек много народу… Идти надо было.
Отправился уже под осенние дожди и слякоть, провожаемый боярами, с обозом, казной и добром. На подарки псам-бесерменам опять невестимо сколь серебра утечет! Не дают обрасти добром, стригут и стригут, стервы!
И уже в Ярославской волости, на Урдоме, пристигли поезд Юрия тверичи…
Как оно там створилось, Юрий сам потом не понимал толком. Помнил скачущий вроссыпь, облавою, строй вражеской конницы, сумасшедшую рубку, чьи-то яростные глаза и яростный блеск танцующих в воздухе сабель, помнил стрелы низко над головой, когда он, пригнувшись, рвал сквозь кусты, холодный веер водяных брызг, и как плыл, фыркая, конь, и как он, мокрый до плеч, скакал потом под холодным ветром и только молил Господа об одном: «Уйти, уйти, уйти!» И ушел, запалив и бросив коня, потеряв весь обоз, казну и половину дружины. Ушел-таки и, петляя, как заяц, добирался потом во Псков, куда затем долго еще добирались и добредали его разбежавшиеся дружинники…
Трудно быть сыном великого отца. Еще труднее, когда рядом, как постоянный молчаливый укор, находится мать со скорбным иконописным ликом русской Богоматери.
Дмитрий Михайлович Грозные Очи был красив, но уже и какой-то особой трагической и обреченной красою. Тонкий в поясу, широкий – «просторный» – в плечах, высокий, с прямым долгим носом и легкою кудрявою русой бородкой, с черно-синими, бездонными, страшными иногда глазами, в которых, даже когда он смеялся, все стояла спрятанная глубоко-глубоко немая печаль, с бровями вразлет, с грозным гласом отца, с породистыми узкими ладонями и долгими материнскими перстами рук (руками этими, почти женскими по рисунку, он как-то на охоте без труда, сдавив за горло, задушил рысь, прыгнувшую с дерева к нему на седло). Любил ли он дочерь Гедимина? Мария изнывала от счастья, даже и глядя на него; и когда он погиб, уже не могла жить, умерла вскоре. Но и ее временем охватывало отчаяние. Дмитрий был весь в одной неизбывной мечте. Душа его горела и сгорала одним-единым огнем: отмстить за отца! И даже мать, сама помогавшая разгореться этому пламени, пугалась, чуя обреченность сына, ибо жить только гневом нельзя, не дано живому человеку. Он должен тогда уж погибнуть или погубить. Или и погубить и погибнуть. Но не жить. Ибо для жизни нужны прощение, забвение и любовь. (Хоть не хотим мы прощать, и забывать не хотим, и трудно нам заставить себя полюбить обидящих нас!) Ярлык на великое княжение нужен был Дмитрию лишь за одним: справиться с Юрием. И пока тот беспечно пировал в Новгороде и готовился к войне со свеей, тверские князья обкладывали его, как волка, загнанного в осок.