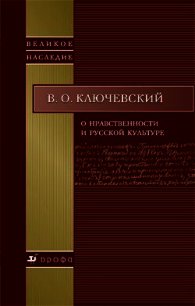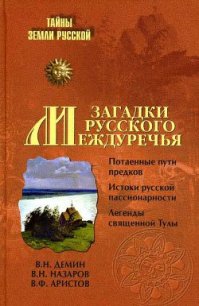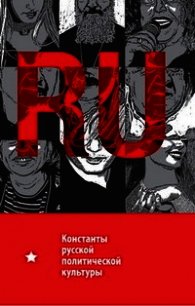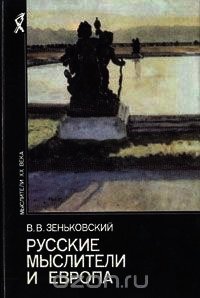Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века) - Лотман Юрий Михайлович
Революционер — всегда разрушитель и борец. Поэтому без понятия конспиративности революционности быть не может. Вместе с тем, однако, положение подпольщика очень сложно соотносится с бытом и принятым поведением. Конспиратор вне круга «своих», погруженный в мир враждебного ему общества, может вести себя двумя способами.
Первый способ — романтический: оставаясь конспиратором, революционер не только не скрывает в обществе таинственного характера своей жизни, но, напротив, всячески его подчеркивает. Он не «нисходит» до того, чтобы прятать от общества свои убеждения, и, вступая в противоречие с самой сущностью конспирации, театрализует свою речь, интонации, жесты, одежду и т. д. Это — характерная черта романтической революционности. Так, М. В. Петрашевский в 1840-х годах шокировал общество и одновременно привлекал к себе его внимание подчеркнутой экстравагантностью одежды (квадратный цилиндр!) и поступков. В интересующее нас время Ник. Тургенев подводил под такое нарочитое нарушение конспиративности своеобразную теорию. Он говорил, что свободные взгляды были приобретены молодежью не для того, чтобы нравиться «хамам». Не случайно в эпоху декабризма конспирация проявлялась в том, чтобы скрывать от «гасильников» конкретные решения и планы тайного общества, но самый факт существования общества и даже его состав, список революционеров-«конспираторов» практически не был секретным. Он был известен и императору, и очень широкому кругу лиц. Не случайно в дальнейшем, в 1821 году, декабристам пришлось прибегнуть к фиктивному роспуску тайного общества, чтобы воскресить совсем исчезнувшую конспирацию.
Перед нами — странная, парадоксальная ситуация, которая впоследствии будет часто сбивать с толку историков: декабристы выступают как странные «неконспиративные конспираторы», члены тайных обществ, которые считают неблагородным делать из своих взглядов тайну. Позже, во время следствия, некоторые, нарочито смешивая конспирирование с ложью, будут играть на декабристском представлении о неразрывности правдивости и чести. Искренность декабристов на следствии, до сих пор повергающая в изумление исследователей, логически вытекала из убежденности дворянских революционеров в том, что нет и не может быть разных видов честности.
Второй, не романтический («реалистический») способ жизни революционера связывает конспирацию с правом на двойное поведение. Чернышевский вводит в роман «Что делать?» свой вымышленный разговор с Рахметовым. Рахметов повергает повествователя в недоумение заявлением: «Вы или лгун, или подлец». Если перевести эти слова с условно-конспиративного языка на реально-политический, то они должны читаться так: «Вы или конспиратор („лжец“), или пустой болтун-либерал („подлец“)». Таким образом, конспиративность прямо подразумевает необходимость и оправданность неискренности («лжи») в отношениях с политическими противниками. Искренность в этих ситуациях вызывает презрение как политическая незрелость и прекраснодушие. Нормой для революционера оказывается жизнь в двойном мире — высокой моральности со «своими» и разрешенного аморализма в отношениях с противниками.
Романтиков XX века (типа Андрея Белого) мучили образы революционера-конспиратора, сыщика-конспиратора как людей-двойников (традиция, восходящая к Ф. Достоевскому). Для романтика декабристской эпохи конспирация всегда оставалась чем-то вынужденным и сомнительным. Ей противостояла героическая публичность открытого агитационного жеста.
Может показаться, что эта характеристика применима не к декабристу вообще, а лишь к деятелям периода «Союза благоденствия», когда «витийство на балах» входило в установку общества. Известно, что в ходе дальнейшей тактической эволюции тайных обществ акцент был перенесен на конспирацию. Новая тактика заменила светского пропагандиста заговорщиком.
Однако изменение в области тактики борьбы не привело к коренному сдвигу в стиле поведения. Становясь заговорщиком и конспиратором, декабрист не начинал вести себя в салоне «как все». Никакие конспиративные цели не могли его склонить к поведению Молчалина. Выражая оценку уже не пламенной тирадой, а презрительным словом или гримасой, он оставался в бытовом поведении «карбонарием». Поскольку бытовое поведение не могло быть предметом для прямых политических обвинений, его не прятали, а наоборот — подчеркивали, превращая в некоторый опознавательный знак.
Д. И. Завалишин, прибыв в Петербург из кругосветного плавания в 1824 году, повел себя так (причем именно в сфере бытового поведения: он отказался воспользоваться рекомендательным письмом к Аракчееву), что последний сказал Батенькову: «Так это-то Завалишин. Ну послушай же, Гаврило Степаныч, что я тебе скажу: он должно быть или величайший гордец, весь в своего батюшку, или либерал» [455]. Характерно, что, по представлению Аракчеева, «гордец» и «либерал» должны себя вести одинаково. Любопытно и другое: своим поведением Завалишин, еще не успев вступить на политическое поприще, себя демаскировал. Однако никому из его друзей-декабристов не пришло в голову обвинять его в этом, хотя они были уже не восторженными пропагандистами эпохи «Союза благоденствия», а конспираторами, готовившимися к решительным выступлениям. Напротив, если бы Завалишин, проявив умение маскировки, отправился на поклон к Аракчееву, поведение его, вероятнее всего, вызвало бы осуждение, а сам он возбудил бы к себе недоверие. Характерно, что близость Батенькова к Аракчееву вызывала неодобрение в кругах заговорщиков.
Показателен и такой пример. Катенин в 1824 году не одобряет характер Чацкого именно за те черты «пропагандиста на балу», в которых М. В. Нечкина справедливо увидела отражение тактических приемов «Союза благоденствия». «Этот Чацкий, — пишет Катенин, — главное лицо. Автор вывел его con amore, и по мнению автора, в Чацком все достоинства и нет порока, но по мнению моему, он говорит много, бранит все и проповедует некстати» [456]. Однако всего за несколько месяцев до этого высказывания Катенин, убеждая своего друга Бахтина выступать в литературной полемике открыто, без псевдонимов, с исключительной прямотой сформулировал требование не только словами, но и всем поведением открыто демонстрировать убеждения: «Обязанность теперь стоять за себя и за правое дело, говорить истину не заикаясь, смело хвалить хорошее и обличать дурное, не только в книгах, но и в поступках(курсив мой. — Ю. Л.), повторять сказанное им, повторять непременно, чтобы плуты не могли притворяться, будто не слыхали, заставить их сбросить личину, выйти на поединок и, как выйдут, забить их до полусмерти» [457].
Нужды нет, что под «правым делом» Катенин понимал пропаганду своей литературной программы и собственных заслуг перед словесностью. Для того чтобы личностное содержание можно было облекать в такиеслова, сами эти выражения должны были уже сделаться, в своем общем содержании, паролем целого поколения.
То, что именно бытовое поведение в целом ряде случаев позволяло молодым либералам отличить «своего» от «гасильника», характерно именно для дворянской культуры, создавшей чрезвычайно сложную и разветвленную систему знаков поведения. Однако в этом же проявились и специфические черты, отличающие декабриста как дворянского революционера.Характерно, что бытовое поведение сделалось одним из критериев отбора кандидатов в общество. Именно на этой основе возникало специфическое для декабристов рыцарство, которое, с одной стороны, определило нравственное обаяние декабристской традиции в русской культуре, а с другой — сослужило им плохую службу в трагических условиях следствия и неожиданно обернулось нестойкостью. Декабристы не были психологически подготовлены к тому, чтобы действовать в условиях узаконенной подлости.
Элементы поведения образуют иерархию: жест — поступок — поведенческий текст. Последний следует понимать как законченную цепь осмысленных поступков, заключенную между намерением и результатом.
455
Завалишин Д. И.Записки, с. 86.
456
Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину. (Материалы для истории русской литературы 20-х и 30-х годов XIX века). СПб., 1911, с. 77.
457
Там же, с. 31.