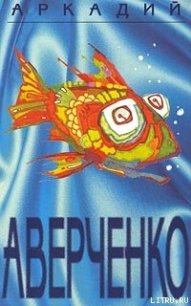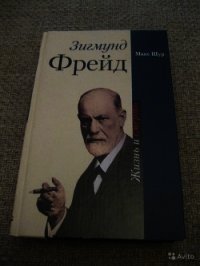Человек перед лицом смерти - Арьес Филипп (книги без регистрации бесплатно полностью txt) 📗
В XVII в. все эти три документа были бы сведены воедино в тексте завещания. Теперь же личные инструкции и рекомендации, касавшиеся не движимого имущества, а воспоминаний, морали, чувств, передавались главным образом устно, как сделала перед смертью госпожа де Ла Ферронэ в последнем разговоре с дочерью Полин. Завещь ние же превратилось в чисто юридический документ, нуж ный нотариусу для решения вопроса о наследстве. Впрочем, и само завещание стало намного менее распространенным я XIX в., чем за сто-двести лет до этого.
Поэтому я предполагаю, что изменение типа завещания во второй половине XVIII в. вызвано новой природой чувств, связывавших завещателя с его наследниками. Η доверие уступило место доверию. На смену чисто правовы отношениям пришли отношения аффективные, основаннь на чувстве. Стало казаться невозможным придавать вид д> говора связям между людьми, любящими друг друга и этой, и в той, загробной, жизни. Все, что касалось тела, д'. щи и ее спасения, дружбы, было выведено из сферы права. став делом домашним, семейным. Трансформация завещания представляется нам, таким образом, одним из многих показателей нового типа отношений внутри семьи, где чуяство возобладало над интересами, правом, условностями. Это чувство, культивируемое и даже экзальтированное, делало разлуку смерти тяжелее и болезненнее и побуждало компенсировать ее долгой памятью об умершем или той или иной формой загробного общения.
Эти христиане, набожные или уже секуляризовавшиеся, или даже наполовину неверующие, вместе придумывают новый рай, который Владимир Янкелевич называет антропоморфным раем: уже не столько Дом Отца, сколько сообщество земных домов, избавленных от эсхатологических страхов и смешивающих традиционные образы вечности с реальностями человеческой памяти об усопшем. В XIX в. все выглядит так, словно все поголовно уверовали в продолжение после смерти земных привязанностей и дружб. Различна лишь мера реализма в представлениях об этом и степень религиозности. Для благочестивых христиан XIX в. вера в будущую жизнь неотделима от других догматов, позитивисты же и агностики, отвергнув учение об Откровении и о спасении души, продолжают, однако, культивировать память о мертвых с такой интенсивностью чувств, что представление о жизни после смерти становится у неверующих не менее реалистичным, ^ чем у людей религиозных.
Это разделение веры в будущую жизнь и религиозной веры вообще пронизывает собой сознание и верующих, и неверующих наших дней. Вера в будущую жизнь, несмотря на весь современный индустриальный рационализм, остается во второй половине XX в. великим религиозным фактом. Как показывают опросы общественного мнения, она отчетливо проявляется при приближении смерти у стариков и больных, которым уже нечего стыдиться своей веры и незачем ее скрывать.
Вера в жизнь после смерти — в действительности реакция на невозможность принять смерть близкого существа, примириться с ней. Это один из многих признаков того великого современного феномена, который мы называем революцией чувства. Чувство начинает управлять поведением. Это не значит, будто человечество до XVIII в. не знало аффективных реакций. Но природа, интенсивность и объекты их в конце XIX в. иные, чем прежде. В наших старых традиционных обществах аффективная привязанность распространялась на гораздо большее число людей и не ограничивалась кругом малой супружеской семьи. Расходясь вширь, это чувство теряло свою остроту и силу. Начиная же с XVIII в. аффективные реакции, напротив, целиком сосредоточиваются на нескольких наиболее близких существах, становящихся исключительными, незаменимыми, неотделимыми. Когда их нет, весь мир кажется опустевшим. В романтизме это «чувство другого» становится доминирующим. Сегодня историки литературы склонны рассматривать такой романтизм как эстетическую моду, буржуазную, лишенную глубины. Но мы теперь знаем, что в романтизме нашел свое выражение важнейший реальный Факт повседневной жизни, коренное изменение человека и общества.
Поскольку смерть — отнюдь не конец любимого существа, то и боль живых, как бы тяжела она ни была, все же не страшна, не безобразна. Она прекрасна, и сам умерший красив. Находиться у постели умершего значит в XIX в. больше, чем просто участвовать в ритуальной социальной церемонии. Это означает присутствовать при зрелище ободряющем и возвышающем. Посещение дома покойного в чем-то напоминает посещение музея: как он красив! В самых банальных интерьерах западных буржуазных домов смерть в конце концов начинает совпадать с красотой: последний этап долгой эволюции, берущей начало от прекрасных лежащих надгробных статуй Ренессанса и продолжающейся в эстетизме смерти эпохи барокко. Однако эта прекрасная смерть XIX в. — уже не смерть, а иллюзия искусства. Смерть начинает прятаться, несмотря на видимую публичность, которой она окружена: похороны, траур, посещение кладбища. Смерть прячется за красотой.
И в христианских доктринах, и в обыденной жизни людей прошлых времен смерть рассматривалась как проявление Зла, проникшего в мир и неотделимого от человеческой жизни. У христиан смерть была моментом трагической ориентации между небом и адом. В XIX в. в ад — самое банальное выражение Зла — едва ли еще верят. О нем лишь говорят, чтобы сохранять видимость веры. Так, де Ла Ферронэ были бы искренне возмущены, если бы им сказали, что они не верят в ад. Они и вправду верили, что существует некое далекое место, предназначенное для величайших преступников, не облегчивших свою участь покаянием, для безбожников, для еретиков. Поэтому Альбер де Ла Ферронэ и хотел в свои последние минуты отдалить жену от ее матери-лютеранки. Все, что еще оставалось от веры в ад, было наследием инквизиции.
В XVII в. даже святой страшился ада, как бы велики ни были его вера и добродетель, в своих медитациях он непрестанно воображал себе адские муки. Для благочестивого христианина XIX в. ад — догма, взятая из катехизиса, но чуждая его миру чувств. Вместе с адом уходит часть самого Зла. Другая его часть остается: земные страдания, несправедливость, несчастье, но Хелен Берне, героиня Шарлотты Бронте, убеждена, что это остаточное Зло связано с плотью и вместе с плотью исчезнет после ее смерти. В мире потустороннем, в мире духов, Зла больше нет, и потому-то смерть так желанна. Недаром Шарль Бодлер воспевает «смерть утешающую», «цель жизни и единственную надежду», пьянящую подобно эликсиру и заставляющую сердце сильнее биться.
Конец ада — первый большой этап отступления Зла — не означает смерти Бога. Романтики часто были пламенно верующими. Но, как смерть прячется за красотой, библейский Бог принимает часто вид Природы. Ведь смерть — это не только расставание с другим человеком, но и, пусть и не всеми осознаваемое, чудесное приближение к неизмеримому, мистическое приобщение к источникам бытия, к космической бесконечности. Романтизм был, несомненно, реакцией на просветительскую философию XVIII в. Тем не менее его Бог унаследовал кое-что от деизма просветителей, смешиваясь с вездесущей Природой, где все гибнет и вновь воссоздается. Не только у интеллектуалов и эстетов образы смерти сопрягаются с образами бесконечности: морем, бескрайней равниной. В самых разных семьях умирающие дети говорят, что видят перед собой морскую гладь или ровную и безбрежную песчаную даль.