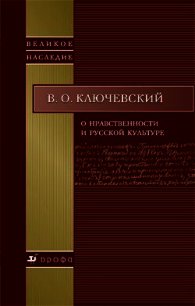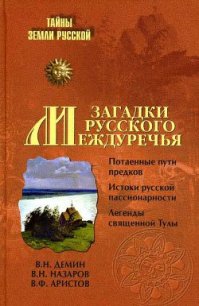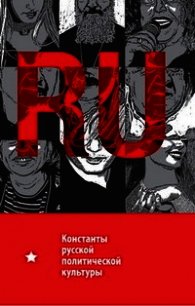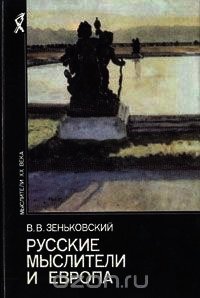Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века) - Лотман Юрий Михайлович
Но именно полнота и подробность, с которой был изложен взгляд на «Зеленую лампу» как побочную управу «Союза благоденствия», обнаруживает известную односторонность такого подхода. Оставим в стороне легенды и сплетни — положим перед собой цикл стихотворений Пушкина и его письма, обращенные к членам общества. Мы сразу же увидим в них нечто общее, объединяющее их к тому же со стихами Я. Толстого, которого Б. В. Томашевский с основанием считает «присяжным поэтом „Зеленой лампы“» [487]. Эта специфика состоит в соединении очевидного и недвусмысленного свободолюбия с культом радости, чувственной любви, кощунством и некоторым бравирующим либертинажем. Не случайно в этих текстах так часто читатель встречает ряды точек, само присутствие которых невозможно в произведениях, обращенных к Н. Тургеневу, Чаадаеву или Ф. Глинке. Б. В. Томашевский цитирует отрывок из послания Пушкина Ф. Ф. Юрьеву и сопоставляет его с рылеевскимпосвящением к «Войнаровскому»:
Слово «надежда» имело гражданское осмысление. Пушкин писал одному из участников «Зеленой лампы» — Ф. Ф. Юрьеву:
Значение слова «надежда» в гражданском понимании явствует из посвящения к «Войнаровскому» Рылеева:
Однако, подчеркивая образное родство этих текстов, нельзя забывать, что у Пушкина после процитированных стихов следовало совершенно невозможное для Рылеева, но очень характерное для всего рассматриваемого цикла:
Если считать, что всясущность «Зеленой лампы» выражается в ее роли побочной управы «Союза благоденствия», то как связать такие — совсем не единичные! — стихи с указанием «Зеленой книги», что «распространение правил нравственности и добродетели есть самая цель Союза», а членам вменяется в обязанность «во всех речах превозносить добродетель, унижать порок и показывать презрение к слабости»? Вспомним брезгливое отношение Н. Тургенева к «пирам» как занятию, достойному «хамов»: «В Москве пучина наслаждений чувственной жизни. Едят, пьют, спят, играют в карты — все сие за счет обременных работами крестьян» [489]. Запись датируется 1821 годом — годом публикации «Пиров» Баратынского).
Первые исследователи «Зеленой лампы», подчеркивая ее «оргический» характер, отказывали ей в каком-либо политическом значении. Современные исследователи, вскрыв глубину реальных политических интересов членов общества, просто отбросили всякую разницу между «Зеленой лампой» и нравственной атмосферой «Союза благоденствия». М. В. Нечкина совершенно обошла молчанием эту сторону вопроса. Б. В. Томашевский нашел выход в том, чтобы разделить серьезные и полностью соответствующие духу «Союза благоденствия» заседания «Зеленой лампы» и не лишенные вольности вечера в доме Никиты Всеволожского. «Пора отличать вечера Всеволожского от заседаний „Зеленой лампы“», — писал он [490]. Правда, строкой ниже исследователь значительно смягчает свое утверждение, добавляя, что «для Пушкина, конечно, вечера в доме Всеволожского представлялись такими же неделимыми, как неделимы были заседания „Арзамаса“ и традиционные ужины с гусем». Остается неясным, почему требуется различать то, что для Пушкина было неделимо, и следует ли в этом случае и в «Арзамасе» разделять «серьезные» заседания и «шутливые» ужины? Вряд ли эта задача представляется выполнимой.
«Зеленая лампа», бесспорно, была свободолюбивым литературным объединением, а не сборищем развратников. Ломать вокруг этого вопроса копья уже нет никакой необходимости [491]. Не менее очевидно, что «Союз благоденствия» стремился оказывать на «Зеленую лампу» влияние (участие в ней Ф. Глинки и С. Трубецкого не оставляет на этот счет никаких сомнений). Но означает ли это, что она была простым филиалом «Союза» и между этими организациями не обнаруживается разницы?
Разница заключалась не в идеалах и программных установках, а в типе поведения.
Масоны называли заседания ложи «работами». Для члена «Союза благоденствия» его деятельность как участника общества также была «работой» или — еще торжественнее — служением. Пущин так и сказал Пушкину: «Не я один поступил в это новое служение отечеству» [492]. Доминирующее настроение политического заговорщика — серьезное и торжественное. Для члена «Зеленой лампы» свободолюбие окрашено в тона веселья, а реализация идеалов вольности — это превращение жизни в непрекращающийся праздник. Точно отметил, характеризуя Пушкина той поры, Л. Гроссман: «Политическую борьбу он воспринимал не как отречение и жертву, а как радость и праздник» [493].
Однако праздник этот связан с тем, что жизнь, бьющая через край, издевается над запретами. Лихость (ср.: «рыцари лихие») отделяет идеалы «Зеленой лампы» от гармонического гедонизма Батюшкова (и умеренной веселости арзамасцев), приближая к «гусарщине» Д. Давыдова и студенческому разгулу Языкова.
Нарушение карамзинского культа «пристойности» проявляется в речевом поведении участников общества. Дело, конечно, не в употреблении неудобных для печати слов — в этом случае «Лампа» не отличалась бы от любой армейской пирушки. Убеждение исследователей, полагающих, что выпившая или даже просто разгоряченная молодежь — молодые офицеры и поэты — придерживалась в холостой беседе лексики Словаря Академии Российской, и в связи с этим доказывающих, что пресловутые «приветствия калмыка» должны были лишь отмечать недостаточную изысканность острот [494]. Оно порождено характерным для современной исторической мысли гипнозом письменных источников: документ приравнивается к действительности, а язык документа — к языку жизни. Дело в том, что участники заседаний и вечеров «Зеленой лампы» соединяли язык высокой политической и философской мысли, утонченной поэтической образности с площадной лексикой. Это создает особый, резко фамильярный стиль, характерный для писем Пушкина к членам «Зеленой лампы». Язык, богатый неожиданными столкновениями и стилистическими соседствами, становился своеобразным паролем, по которому узнавали «своего». Наличие языкового пароля, резко выраженного кружкового жаргона — характерная черта и «Лампы», и «Арзамаса». Именно наличие «своего» языка выделил Пушкин, мысленно переносясь из изгнания в «Зеленую лампу» («Вновь слышу… // Ваш очарованный язык…»).
Речевому поведению должно было соответствовать и бытовое, основанное на том же смешении. Еще в 1817 году, адресуясь к Каверину (гусарская атмосфера подготовляла атмосферу «Лампы»), Пушкин писал, что
Напомним, что как раз против такого смешения резко выступал моралист и проповедник Чацкий:
487
Томашевский Б.Пушкин. Кн. 1 (1813–1824). М.; Л., 1956, с. 212.
488
Там же, с. 197.
489
Дневники Н.Тургенева. Т. Ш. — В кн.: Архив братьев Тургеневых. Вып. 5. Пг., 1921, с. 259.
490
Томашевский Б.Пушкин. Кн. 1, с. 206.
491
Существует и другая причина, по которой нельзя согласиться ни с П. Анненковым, писавшим, что следствие по делу декабристов обнаружило «невинный, то есть оргический характер „Зеленой лампы“» (Анненков П.А. С. Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874, с. 63), ни с Б. Томашевским, высказавшим предположение, что «слухи об оргиях, возможно, пускались с целью пресечь… любопытство и направить внимание по ложному пути» (Томашевский Б.Пушкин. Кн. 1, с. 206). Полиция в начале века преследовала безнравственность не менее активно,чем свободомыслие. Анненков невольно переносил в Александровскую эпоху нравы «мрачного семилетья». Что же касается утверждения Б. В. Томашевского, что «заседания конспиративного общества не могли происходить в дни еженедельных званых вечеров хозяина», что, по мнению исследователя, — аргумент в пользу разделения «вечеров» и «заседаний», то нельзя не вспомнить «тайные собранья // По четвергам. Секретнейший союз» грибоедовского Репетилова. Конспирация в 1819–1820 гг. еще весьма далеко отстояла от того, что вкладывалось в это понятие к 1824 г.
492
Пущин И. И.Записки о Пушкине. Письма. [М.], 1956, с. 81.
493
Гроссман Л.Пушкин. М., 1958, с. 143.
494
Известные пушкинские слова из послания к Никите Всеволожскому:
поясняются следующим образом. «Вино кометы», упоминающееся и в «Евгении Онегине», — шампанское из винограда урожая 1811 г., славившееся высоким качеством (этот же год был отмечен появлением кометы, что считалось предвестием войны). «Очарованный язык… <…> Желай мне здравия, калмык!» — слова, указывающие на обычай вечеров в доме Всеволожского: когда кто-нибудь из участников молодежной попойки произносил «неудобное для печати слово», слуга хозяина, мальчик-калмык, подносил ему бокал со словами: «Здравия желаю!», — имеют несколько комический характер.