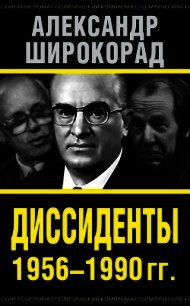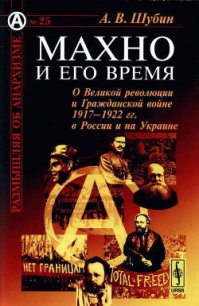Диссиденты, неформалы и свобода в СССР - Шубин Александр Владленович (книги онлайн читать бесплатно .TXT) 📗
Кто в детстве не писал стихов? Некоторые даже читали их в узком кругу знакомых. С возрастом приходило осознание несовершенства форм, появлялся профессионализм в другой области, и стихотворчество иссякало. Но подрастающее поколение «восьмидесятников» не хотело мириться с одномерностью общества и выплеснуло ему на голову несовершенство своих юношеских виршей:
Те, кто захотел быть свободным от общества, оказался в плену замкнутой субкультуры.
Сатирическая зарисовка Гребенщикова:
КСП–шников от аналогичного кризиса спасло появление новых людей.
Став после Тбилиси–80 лидером советского песенного радикализма, Гребенщиков взялся выращивать эту «молодую шпану». Помимо музыкальных интересов круг Гребенщикова был увлечен восточной мистикой. Это модное поветрие захватило и Цоя. Но творчество оставалось главной темой общения. «19 летний Виктор Цой, один из двух сооснователей КИНО, учился у Гребенщикова, который даже участвовал в записи первого (интересного по замыслу, но запоротого технически) альбома «45», — пишет И. Смирнов. — Цой тяготел к неоромантике и одевался куда изысканнее своих коллег. Его компаньон Алексей Рыбин, напротив, сворачивал руль «влево» — в сторону чистого панк–рока. Его песня «Все мы как звери» стала гимном ленинградских агрессивных панков — ПТУшников, именовавших себя «зверями» [967].
Своеобразие этого направления рока вытекало из синтеза «несоединимого» – традиции хиппи и панка. Панковская община Ленинграда, насчитывавшая 20–30 человек (оптимальный размер будущих неформальных групп), превосходила Гребенщикова по степени эпатажа. Они игнорировали всякие культурные нормы. Один из панков того времени А. Рыбин вспоминал: ”тотальная безграмотность сочеталась у рокеров с постоянной агрессивностью — я имею в виду тексты песен, даже самые, на первый взгляд, безобидные» [968].
Гребенщиков, покровительствовавший панкам, сам, однако, «был абсолютно неагрессивен, он не бился в стену, не ломился в закрытую дверь, ни с кем не воевал, а спокойно отходил в сторонку, открывал другую, не видимую для сторожей дверь и выходил в нее. При этом в его неагрессивности и простоте чувствовалось гораздо больше силы, чем в диких криках и грохоте первобытных рокеров. Они хотели свободы, отчаянно боролись за нее, а Б.Г. был уже свободен, он не воевал, он просто решил и СТАЛ свободным» [969]. Навсегда ли?
Государство уже потеряло контроль, машина шоу–бизнеса еще не подобрала его. В начале 80–х гг. рок–движение представляло собой образец свободного неформального сообщества, в котором царил дух вольной и подчас грубоватой дискуссии, немыслимой в официальной культуре. «Да, концерт был попросту поганый», — комментировал рок–журнал «Рокси» выступление группы «Кино» [970]. Музыканты были вольны вынести на суд зрителей свое несовершенное творчество. Зрители имели возможность сказать все, что они думают о графоманах. Наиболее тактичные облекали свою критику в изящные тона. Так, например, А. Гуницкий, говоря о том же «Кино» образца 1984 г., назвал их песни «очаровательным примитивизмом» [971]. Но «примитивизм» находил поклонников не только в среде подростков, «не доросших» до большой поэзии, но и среди любителей жанра. Для них была важна не столько поэзия, сколько само шоу, само действие. А. Зандер комментировал: ”КИНО губительно показало, что суть живой рок–музыки — в обмене энергией с сидящими в зале… То, что Цой делал на сцене — было какое–то языческое волхование, рок–колдовство. Многие из его приемов — повторение одной и той же фразы под мерный и достаточно простой ритм, все его распевки — «а–а–а–а–а», «у–у–у–у–у» — классическое шаманство» [972].
Аура рок–шоу компенсировала «очаровательный примитивизм» текстов. Впрочем, как и в 50–60–е гг., сквозь толщу графомании у некоторых авторов пробивались ростки подлинного мастерства. Произвольные сочетания слов случайно обретали смысл, благо толкователи были готовы его искать. Цой объяснял смысл своих стихов: ««Камчатка» и «Алюминиевые огурцы» — это чистая фонетика и, может быть, какие–то моменты, не связанные между собой и имеющие задачу вызвать ассоциативные связи. Можно назвать это второй фантастикой» [973]. Но только ли фантастика в словах «Я сажаю алюминивые огурцы на брезентовом поле». Абсурдные ассоциации — лакмусовая бумажка подсознания. В абсурдной цивилизации, где даже овощи пропитаны металлом, эти слова слишком близки к реальности.
Несмотря на «восточные» искания и западные корни рока, он все дальше отходил от зарубежных образцов и встраивался в традицию русской культуры. В начале 80–х гг. в рок–музыке стала доминировать традиция, в которой, говоря словами И. Смирнова, «полностью стерты не только технологические, но и стилистические различия между рокерами и бардами: частушки Шевчука ничем не отличаются от частушек Северного… «Электрический» Розенбаум — бард. Это новый феномен «народной магнитофонной культуры» — гораздо более русский, чем рок 70–х. Процесс «русификации», начатый с гребенщиковского Иванова, получил свое логическое завершение в забойном харде ОБЛАЧНОГО КРАЯ:
Это не единичные примеры, а повсеместная тенденция, и даже те, кто ориентируются в основном на западные образцы, отдают ей должное: Ленинградская АЛИСА включает в программу 1985 года отрывки из прозы М.А. Булгакова. Рок–музыканты осознают себя наследниками не только интернациональной рок–традиции, но и отечественной культуры, ее создававшегося веками духовного потенциала. «Чтобы писать песни, — говорит Шевчук, — недостаточно смотреть видеомагнитофон. Нужно читать Ключевского» [974].
Пожалуй, наиболее емко преемственность русской культуры и отечественного рока выразил А. Башлачев:
Из этой традиции беспрестанной борьбы дикости и культуры вырастает рок: