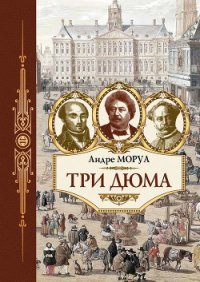От Монтеня до Арагона - Моруа Андре (книги без регистрации TXT) 📗
Такая позиция была довольно резка в его время (она наблюдается еще у Фенелона и Вобана) [64]. Лабрюйер склоняется к народу и в то же время сам удивляется нелепости своего положения: «Глянешь на иных бедняков, и сердце сжимается: многим нечего есть, они боятся зимы, страшатся жизни. В это же время другие лакомятся свежими фруктами; чтобы угодить их избалованному вкусу, землю заставляют родить круглый год. Простые горожане, только потому что они богаты, позволяют себе проедать за один присест столько, сколько нужно на пропитание сотне семейств. Пусть кто хочет возвышает голос против таких крайностей, я же по мере сил избегаю как бедности, так и богатства, и нахожу себе прибежище в золотой середине» [65]. Добавьте к этому тексту знаменитую страницу о положении крестьян: «Мы видим в них диких животных…» [66] высказывания писателя о жестокости судебных приговоров, погружающей его в горестное изумление, «об осуждении невинного — то, что касается всех людей»; вдумайтесь в его определение лицемера: тот, «который при короле-безбожнике сам становится безбожником», — и вы поймете, почему некоторые комментаторы видели в Лабрюйере «философа» в духе XVIII века [67] и революционера за сто лет до революции.
Однако эти названия мало подходят к писателю, который, родившись во Франции и будучи христианином, придерживался, ограничивая себя в сатире, обычаев Франции и христианских добродетелей. Если он осмеливался разоблачать лицемерие, то сказанное им предназначалось для сильных умов; если он говорил без снисхождения о придворных, то никогда не терял уважения к королю; если чего добивался (и это было закономерно еще в 1789 году), то исключительно порядка среди придворных. «Именовать государя «отцом народа» — значит не столько воздавать ему хвалу, сколько называть его настоящим именем и правильно понимать истинное назначение монарха» [68]. Лабрюйер рисует портрет идеального принца, в котором, как и все его современники, кроме тех, кто писал тайно, он приписывает Людовику Великому все добродетели, присущие хорошему правителю. При покровительстве государя он может, как Мольер, высмеивать невежество людей высокого происхождения, показывая, насколько выше их стоят такие великие слуги отечества, как Кольбер и Лувуа [69], «разночинцы», ведающие все слабые и сильные стороны дворянского сословия, знающие, что скоро благородный дворянин будет почитать за большое счастье породниться с ними. Прерогатива абсолютной власти в том и состоит, что она может создавать между подданными короля своего рода равенство. Однако расстояние, отделяющее короля от других людей, настолько велико, что, существуй подобное между его подданными, с точки зрения межзвездных пространств оно оказалось бы ничтожным. Добрых тиранов нет, но монархия, пожалуй, все же лучше олигархии при условии, что первая не покровительствует второй и что крестьянин под властью умного короля не будет страдать на своем небольшом участке от соседства господина.
Таким образом, говоря о Лабрюйере как о Жюльене Сореле, нужно соблюдать осторожность. Лабрюйер — это тот же Жюльен Сорель, который никогда не покидал своего поста возле маркиза де ля Моля, куда забросила его судьба, и хладнокровно записывал пороки мира, предаваясь им вместе с другими. Сохранились немногие тексты, в которых те, кто знал Лабрюйера, характеризуют его как философа, счастливого и веселого человека. Можно даже полюбопытствовать: не было ли у него самого каких-либо грешков, которые он отмечал у людей своего круга? Писатели-моралисты, как и писатели-романисты, в какой-то мере сами исповедуются и, надо думать, лучше анализируют те ощущения, которые испытывают сами. Марсель Пруст превосходно раскрыл вред снобизма, но не потому, что сам становился снобом, когда писал, а потому, что он вообще был им.
В письмах Лабрюйера звучит иногда покровительственный тон и некоторое самодовольство от сознания, что он друг де Конде и господина первого врача. Да и в предисловии в «Речи в Академии» есть излишний яд и некоторые недозволенные в полемике приемы.
Не приходится сомневаться, что, несмотря на свои философские взгляды, Лабрюйер принимал близко к сердцу суждения о своем труде, вызывавшие в нем некоторое неудовольствие.
«Едва человек начинает приобретать имя, как на него сразу ополчаются все; даже так называемые друзья не желают мириться с тем, что достоинства его получают признание, а сам он становится известен и как бы причастен к той славе, которую они сами уже приобрели» [70]. Вероятно, Буало любил Лабрюйера несколько больше до успеха его «Характеров», чем после достигнутой им известности. Находясь при дворе, Лабрюйер ясно видел невероятную человеческую низость: «Нет ничего хорошего в обиженном человеке: добродетель, достоинство — все у него в пренебрежении, или плохо выражено, или погрязло в пороках. Разочарованный, он думает, что рассудительный человек должен уклоняться от всяких дел: он не считает, что искусный политик выше того, кто пренебрегает политикой, и все больше укрепляется в мысли, что мир отнюдь не заслуживает того, чтобы им заниматься. Чего можно ждать от мира? Стоит ли возмущаться тем, что люди черствы, неблагодарны, несправедливы, надменны, себялюбивы и равнодушны к ближнему? Такими они родились, такова их природа, и не мириться с этим — все равно что негодовать, зачем камень падает, а пламя тянется вверх» [71].
Этот человек достаточно свободен и обладает умом ясным, проницательным и строгим. И все же многие из выведенных им характеров продиктованы чувством мести, а Теодект ему слишком скучен: «Наконец я не выдерживаю и ухожу; у меня нет больше сил терпеть Теодекта и тех, кто его терпит» [72]. И он уходит, но потом, вернувшись к Теодекту, пишет о нем несколько мстительных строк. В этом своего рода преимущество писателя. С течением времени Лабрюйер менялся: он нервничает, его раздражает то, что ему говорят или не говорят о его книге. «Не говорите мне о слоге, чернилах, бумаге, пере, типографщике и печатном станке! Пусть никто не дерзает уверять меня: «Ты так хорошо пишешь, Антисфен! Что же ты медлишь? Неужели мы не дождемся от тебя какого-нибудь ин-фолио? Рассмотри все добродетели и все пороки в последовательном и методичном труде, которому не было бы конца» (следовало бы еще добавить: «и который никто не станет читать»). Нет, я навсегда отрекаюсь от того, что называлось, называется и будет называться книгой… Вот уже двадцать лет обо мне толкуют на площадях, но разве мои яства стали изысканнее, разве я теплее одет, разве холод не проникает ко мне в комнату, разве я сплю на пуховой перине? Какая нелепость, глупость, безумие повесить над входом в свое жилище надпись: «Здесь живет писатель или философ», — продолжает Антисфен.
Приведем из происходящего разговора с воображаемым Антисфеном одну фразу, которая должна была раздражать самого Лабрюйера: «Рассмотри в последовательном и методичном труде…» Классическая Франция сохранила вкус к трактатам, четко разработанной композиции, Цицероновым логическим переходам. «Мысли» Паскаля лишены той фрагментарности и разрозненности, которую мы в них видим, они представляют собою отрывки из неоконченного произведения. «Максимы» Ларошфуко прочно связаны посылкою о роли честолюбия. Даже сам Монтень, явно любивший отступления, добивается вполне законченного рисунка. Лабрюйер — первый великий французский писатель, который свободно стал на путь «импрессионизма».
Несомненно, он сам выбирал названия глав: «О творениях человеческого разума», «О собственном достоинстве», «О женщинах», «О сердце», «Об обществе и искусстве вести беседу», включая и два последних: «О церковном красноречии», «О вольнодумцах»; однако он вводил в них и кое-какие иные размышления, которые часто могли встретиться и в других главах. Так, изречения, фигурировавшие в разделе «О сердце», вполне на своем месте и в разделе «О женщинах». Лабрюйер многое перемещал в последующих изданиях книги. Он же говорил в предисловии в «Речи в Академии» о плане и композиции книги «Характеры»: «Не кажется ли вам, что из шестнадцати глав, составляющих эту книгу, пятнадцать, вскрывающие ложь и смешные стороны, наблюдаемые у объектов страстей и человеческих привязанностей, направлены на опровержение всяких чудес, которые вначале ослабляют, а затем и заглушают в людях стремление к познанию бога? Таким образом, эти главы являются как бы подготовкой к последней, шестнадцатой главе, где подвергается осуждению и развенчивается атеизм».