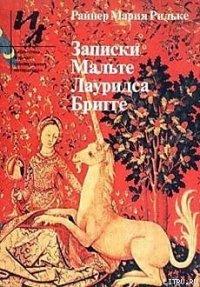Искушение чудом («Русский принц», его прототипы и двойники-самозванцы) - Мыльников Александр Сергеевич (чтение книг TXT) 📗
Хотя под действие манифеста подпадало все население империи, социальные градации в нем проводились четко, со всей определенностью. На одной стороне находились «благородные», на другой — «подлые». Примечательно, что благонамеренность дворянства постулировалась — объявлялось, что оно неспособно на деяния, предусмотренные указом 1730 г., а тем более на ложные доносы. К достойным доверия лицам отнесено и «знатное купечество». Такое добавление было чрезвычайно характерным для уже известных нам установок Петра III. Зато принципиально иное отношение закреплялось к лицам «из солдат, матросов, людей господских, крестьян, бурлаков, фабричных мастеров и, одним словом, всякого звания подлых». Чтобы исключить с их стороны наветы на своих начальников, господ и других «неприятелей», в манифесте предусматривались специальные меры.
Постоянным камнем преткновения для российского царизма был вопрос о возможности прямого обращения к монарху со стороны подданных. В XVIII в. он решался различно, в основном отрицательно. Петр III попытался достичь компромисса: если и не исключить полностью, то усложнить процедуру подачи челобитных лично императору, поскольку, как сказано в манифесте, «легкость могла бы поощрить наветы». Для подачи важных доносов предлагалось «без всякого опасения» обращаться к персонально названным в манифесте сановникам: А. А. Нарышкину, А. П. Мельгунову и Д. В. Волкову, «кои для того монаршею нашею доверенностию удостоены». Впрочем, такой весьма своеобразный порядок просуществовал всего несколько дней. Уже указом от 4 марта со ссылкой на прежние запретительные акты Петра I и его преемников исключалась подача прошения непосредственно императору, минуя соответствующие органы власти [127, т. 15, № 11459].
Оба февральских манифеста взаимосвязаны. И не только потому, что отделены друг от друга всего тремя днями. Они взаимосвязаны потому, что закрепляли господствующий статус дворянства с обеспечением ему (прежде всего — ему!) безопасности от наказания по тайным доносам. Именно эту направленность манифестов имел в виду А. С. Пушкин, называя их указами «о вольности дворян», коими, добавлял он, «предки наши столь гордились и коих справедливее должны были бы стыдиться» [133, т. 11, с. 15]. Он именовал эти акты «памятниками неудачного борения Аристокрации с Деспотизмом». И в самом деле, при всей либеральности (по сравнению с тем, что было до этого), февральские манифесты оставляли верховные неограниченные права императора в неприкосновенности.
Определенные основания «гордиться» этими актами все же имелись. Издание манифеста 18 февраля позволило значительной части дворян, служивших вдалеке от своих поместий или живших нахлебниками при царском дворе, вернуться в родные места. Одни из них предались пьянству, разгулу и непередаваемому самодурству, ставшему одной из главных причин Пугачевского движения. Но были и другие дворяне — а их оказалось немало, — занявшиеся полезными для страны делами: хозяйством, воспитанием детей, просвещением крестьян, благотворительностью, собиранием библиотек и художественных предметов, чтением русских и иностранных книг и журналов. Своеобразным юридическим обеспечением такого стиля жизни явилась отмена Тайной канцелярии. Признание 21 февраля выражения «слово и дело» более не имеющим смысла означало замену внесудебного произвола нормальным судебным разбирательством по делам политического обвинения. Это способствовало укреплению чувства собственного достоинства не только среди дворянства, но и у формировавшегося российского «третьего сословия». Постепенно в разных городах и сельских местностях России складывались очаги дворянской и купеческой образованности, выдвинувшие не одно поколение людей, прославивших отечественную культуру. И еще долго, постепенно затухая, теплилась в таких семьях память о февральских «указах». Не напрасно, наверное, описывая быт «старосветских помещиков», Н. В. Гоголь ввел характерную деталь: на стене одной из комнат Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны висел позабытый старинный портрет Петра III!
Манифесты 18 и 21 февраля стали двумя принципиально значимыми шагами императора по претворению в жизнь убеждений, сложившихся у него, как мы видели, до вступления на престол. Но тогда же им был сделан и третий шаг, а точнее сказать, несколько шагов по реализации еще одного давнего замысла. Было это рискованным делом, поскольку затрагивало не только укоренившиеся стереотипы, но и более осязаемые материальные интересы православной церкви. Речь шла об официальном закреплении религиозной веротерпимости. Иными словами, о провозглашении в России свободы совести.
Решить столь тяжелый вопрос одним, единовременно изданным манифестом было невозможно. По всей своей спешке Петр Федорович отдавал отчет в этом. Поэтому он начал с урегулирования одного, хотя и чрезвычайно болезненного аспекта: положения старообрядцев. Вопрос этот его заботил чрезвычайно. В конце января, почти одновременно с подготовкой двух уже знакомых нам манифестов, он сообщил сенаторам через генерал-прокурора А. И. Глебова о намерении прекратить преследование старообрядцев. Указом 29 января Сенату предписывалось разработать положение о свободном возвращении староверов, бежавших в прежние годы из-за религиозных преследований в Речь Посполитую и другие страны. Возвращавшимся предлагалось по их усмотрению поселяться в Сибири, Барабинской степи и некоторых других местах. Им разрешалось пользоваться старопечатными книгами и обещалось «никакого в содержании закона по их обыкновению возбранения не чинить» [127, т. 15, № 11420].
В ближайшие же дни, 1 и 7 февраля, специальными указами подтверждалось прекращение розыска и уничтожение дел о самосожжении и о защите старообрядцев от местного духовенства. Правда, порой способ такой защиты оказывался довольно своеобразным. Так, обратившиеся с челобитной по этому поводу жители двух уездов Нижегородской губернии были навечно приписаны к железоделательным заводам Р. И. Воронцова «для исправления заводских работ» [127, т. 15, № 11434—11435]. Круг указов, которыми император обещал защитить старообрядцев «от чинимых им обид и притеснений», был скреплен торжественным манифестом 28 февраля. Бежавшим за рубеж «великороссийским и малороссийским разного звания людям, также раскольникам, купцам, помещичьим крестьянам, дворовым людям и воинским дезертирам» разрешалось возвращаться до 1 января 1763 г. «без всякой боязни или страха» [127, т. 15, № 11456].
Эти меры Петра III во многом напоминают те, которые в Пруссии провел к тому времени Фридрих II, а в Австрийской монархии спустя почти два десятилетия, в 1781 г., объявит Иосиф II. В них в определенной степени отразились популярные в общественном сознании эпохи Просвещения стереотипы, в частности идея свободы совести, но истолкованная и приспособленная к интересам господствующих классов феодально-абсолютистских государств. В основе такого курса в конечном счете лежали соображения экономической пользы: стремление удержать от побегов значительную часть трудоспособного городского и особенно сельского населения, а также понимание того, что только силой сделать это нельзя. Характерна мотивировка указа. В России, говорилось в резолюции Петра III, наряду с православными «и иноверные, яко магометане и идолопоклонники, состоят, а те раскольники — христиане, точию в едином застарелом суеверии и упрямстве состоят, что отвращать должно не принуждением и огорчением их, от которого они, бегая за границу, в том же состоянии множественным числом проживают бесполезно». Эта аргументация во многом повторяет соображения, изложенные М. В. Ломоносовым в трактате «О сохранении и размножении российского народа». Совпадение многозначительное: идеи русского ученого-патриота оказывались чрезвычайно близки размышлениям императора еще в бытность его наследником престола. Посредником, скорее всего, выступил И. И. Шувалов, которому упомянутый трактат непосредственно адресовывался (если Ломоносову покровительствовал Шувалов, то последний пользовался доверием и расположением императора). Итак, Ломоносов — Петр III! Соединение этих, столь разных имен далеко, впрочем, не случайное, хотя по настоящему до сих пор не осознанное, позволяет по-новому осветить многие действия как правительства Петра III, так и его самого.