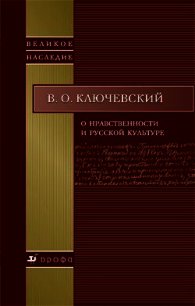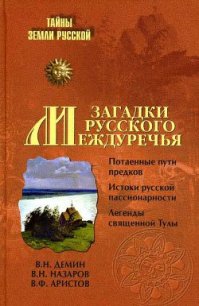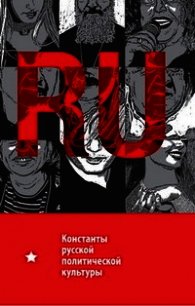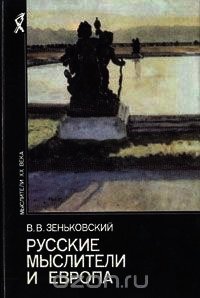Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века) - Лотман Юрий Михайлович
Приведем еще один пример: в наиболее ранних вариантах древнерусского законодательства («Русская правда») характер возмещения («виры»), которое нападающий должен был заплатить пострадавшему, пропорционален материальному ущербу (характеру и размеру раны), им понесенному. Однако в дальнейшем юридические нормы развиваются, казалось бы, в неожиданном направлении: рана, даже тяжелая, если она нанесена острой частью меча, влечет за собой меньшую виру, чем не столь опасные удары необнаженным оружием или рукояткой меча, чашей на пиру, или «тылесной» (тыльной) стороной кулака.
Как объяснить этот, с нашей точки зрения, парадокс? Происходит формирование морали воинского сословия, и вырабатывается понятие чести. Рана, нанесенная острой (боевой) частью холодного оружия, болезненна, но не бесчестит. Более того, она даже почетна, поскольку бьются только с равным. Не случайно в быту западноевропейского рыцарства посвящение, то есть превращение «низшего» в «высшего», требовало реального, а впоследствии знакового удара мечом. Тот, кто признавался достойным раны (позже — знакового удара), одновременно признавался и социально равным. Удар же необнаженным мечом, рукояткой, палкой — вообще не оружием— бесчестит, поскольку так бьют раба.
Характерно тонкое различие, которое делается между «честным» ударом кулаком и «бесчестным» — тыльной стороной кисти или кулака. Здесь наблюдается обратная зависимость между реальным ущербом и степенью знаковости. Сравним замену в рыцарском (потом и в дуэльном) быту реальной пощечины символическим жестом бросания перчатки, а также вообще приравнивание при вызове на дуэль оскорбительного жеста оскорблению действием.
Таким образом, текст поздних редакций «Русской правды» отразил изменения, смысл которых можно определить так: защита (в первую очередь) от материального, телесного ущерба сменяется защитой от оскорбления. Материальный ущерб, как и материальный достаток, как вообще вещи в их практической ценности и функции, принадлежит области практической жизни, а оскорбление, честь, защита от унижения, чувство собственного достоинства, вежливость (уважение чужого достоинства) принадлежат сфере культуры.
Секс относится к физиологической стороне практической жизни; все переживания любви, связанная с ними выработанная веками символика, условные ритуалы — все то, что А. П. Чехов называл «облагораживанием полового чувства», принадлежит культуре. Поэтому так называемая «сексуальная революция», подкупающая устранением «предрассудков» и, казалось бы, «ненужных» сложностей на пути одного из важнейших влечений человека, на самом деле явилась одним из мощных таранов, которыми антикультура XX столетия ударила по вековому зданию культуры.
Мы употребили выражение «вековое здание культуры». Оно не случайно. Мы говорили о синхронной организации культуры. Но сразу же надо подчеркнуть, что культура всегда подразумевает сохранение предшествующего опыта. Более того, одно из важнейших определений культуры характеризует ее как «негенетическую» память коллектива. Культура есть память. Поэтому она всегда связана с историей, всегда подразумевает непрерывность нравственной, интеллектуальной, духовной жизни человека, общества и человечества. И потому, когда мы говорим о культуре нашей, современной, мы, может быть сами того не подозревая, говорим и об огромном пути, который эта культура прошла. Путь этот насчитывает тысячелетия, перешагивает границы исторических эпох, национальных культур и погружает нас в одну культуру — культуру человечества.
Поэтому же культура всегда, с одной стороны, — определенное количество унаследованных текстов, а с другой — унаследованных символов.
Символы культуры редко возникают в ее синхронном срезе. Как правило, они приходят из глубины веков и, видоизменяя свое значение (но не теряя при этом памяти и о своих предшествующих смыслах), передаются будущим состояниям культуры. Такие простейшие символы, как круг, крест, треугольник, волнистая линия, более сложные: рука, глаз, дом — и еще более сложные (например, обряды) сопровождают человечество на всем протяжении его многотысячелетней культуры.
Следовательно, культура исторична по своей природе. Само ее настоящее всегда существует в отношении к прошлому (реальному или сконструированному в порядке некоей мифологии) и к прогнозам будущего. Эти исторические связи культуры называют диахронными.Как видим, культура вечна и всемирна, но при этом всегда подвижна и изменчива. В этом сложность понимания прошлого (ведь оно ушло, отдалилось от нас). Но в этом и необходимость понимания ушедшей культуры: в ней всегда есть потребное нам сейчас, сегодня.
Мы изучаем литературу, читаем книжки, интересуемся судьбой героев. Нас волнуют Наташа Ростова и Андрей Болконский, герои Золя, Флобера, Бальзака. Мы с удовольствием берем в руки роман, написанный сто, двести, триста лет назад, и мы видим, что герои его нам близки: они любят, ненавидят, совершают хорошие и плохие поступки, знают честь и бесчестие, они верны в дружбе или предатели — и все это нам ясно.
Но вместе с тем многое в поступках героев нам или совсем непонятно, или — что хуже — понято неправильно, не до конца. Мы знаем, из-за чего Онегин с Ленским поссорились. Но какони поссорились, почему вышли на дуэль, почему Онегин убил Ленского (а сам Пушкин позже подставил свою грудь под пистолет)? Мы много раз будем встречать рассуждение: лучше бы он этого не делал, как-нибудь обошлось бы. Они не точны, ведь чтобы понимать смыслповедения живых людей и литературных героев прошлого, необходимо знать их культуру: их простую, обычную жизнь, их привычки, представления о мире и т. д. и т. п.
Вечное всегда носит одежду времени, и одежда эта так срастается с людьми, что порой под историческим мы не узнаем сегодняшнего, нашего, то есть в каком-то смысле мы не узнаем и не понимаем самих себя. Вот когда-то, в тридцатые годы прошлого века, Гоголь возмутился: все романы о любви, на всех театральных сценах — любовь, а какаялюбовь в его, гоголевское время — такая ли, какой ее изображают? Не сильнее ли действуют выгодная женитьба, «электричество чина», денежный капитал? Оказывается, любовь гоголевской эпохи — это и вечная человеческая любовь, и вместе с тем любовь Чичикова (вспомним, как он на губернаторскую дочку взглянул!), любовь Хлестакова, который цитирует Карамзина и признается в любви сразу и городничихе, и ее дочке (ведь у него — «легкость в мыслях необыкновенная!»).
Человек меняется, и, чтобы представить себе логику поступков литературного героя или людей прошлого — а ведь мы равняемся на них, и они как-то поддерживают нашу связь с прошлым, — надо представлять себе, как они жили, какой мир их окружал, каковы были их общие представления и представления нравственные, их служебные обязанности, обычаи, одежда, почему они поступали так, а не иначе. Это и будет темой предлагаемых бесед.
Определив, таким образом, интересующие нас аспекты культуры, мы вправе, однако, задать вопрос: не содержится ли в самом выражении «культура и быт» противоречие, не лежат ли эти явления в различных плоскостях? В самом деле, что такое быт? Быт — это обычное протекание жизни в ее реально-практических формах; быт — это вещи, которые окружают нас, наши привычки и каждодневное поведение. Быт окружает нас как воздух, и, как воздух, он заметен нам только тогда, когда его не хватает или он портится. Мы замечаем особенности чужого быта, но свой быт для нас неуловим — мы склонны его считать «просто жизнью», естественной нормой практического бытия. Итак, быт всегда находится в сфере практики, это мир вещей прежде всего. Как же он может соприкасаться с миром символов и знаков, составляющих пространство культуры?
Обращаясь к истории быта, мы легко различаем в ней глубинные формы, связь которых с идеями, с интеллектуальным, нравственным, духовным развитием эпохи самоочевидна. Так, представления о дворянской чести или же придворный этикет, хотя и принадлежат истории быта, но неотделимы и от истории идей. Но как быть с такими, казалось бы, внешними чертами времени, как моды, обычаи каждодневной жизни, детали практического поведения и предметы, в которых оно воплощается? Так ли уж нам важно знать, как выглядели «Лепажастволы роковые», из которых Онегин убил Ленского, или — шире — представлять себе предметный мир Онегина?