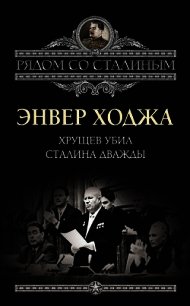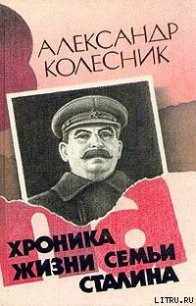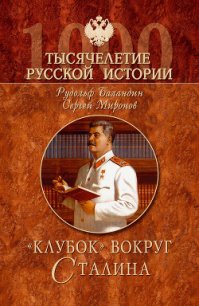Как убивали Сталина - Добрюха Николай (книги без сокращений .TXT) 📗
7) зав. финчастью Санупра С. Б. Кузнецова — контрреволюционно настроенного зятя князя Оболенского;
8) врача В. А. Кирасирова (по агентурным данным — настоящая фамилия Трегуб) — до революции работал в госпитале принца Ольденбургского, муж его сестры Мосятин — белый офицер, бывший владелец домов и торговых предприятий;
9) врача Л. B. Бехмана — его отец имел никелировочную фабрику с рабочей силой в 100 человек, а брат — белый полковник;
10) швейцара — бывшую домовладелицу А. И. Мицкевич;
11) машинистку лаборатории А. И. Иваницкую — дочь лишённого избирательных прав бывшего домовладельца;
12) машинистку Т. И. Розенберг — в прошлом дочь крупного помещика;
13) фельдшерицу Р. Я. Ямпольскую — наследницу крупных фабрикантов…
Можно было бы перечислить весь список, но, пожалуй, достаточно и этого, чтобы представить ту отрицательную энергию, которая скопилась в этих отчаявшихся людях против новой власти, сломавшей им всю жизнь. Конечно, то, что этот «медицинский антибольшевистский фронт» пытался предпринять, иначе, как террористическими формами, не назовёшь, а террор, как известно, может лишь осложнить положение, но никак не разрешить его. Более того — способен усугубить его не в пользу начавшей и опирающейся на террор стороны. Так это и было! На 2-й «белый террор» большевики ответили новым, ещё более страшным и беспощадным, «красным террором», который вошёл в историю как «волна репрессий 37-го года».
Нельзя, разумеется, считать доказанными медицинскими убийствами смерти, скажем, Крупской или Горького, бросившего грозный клич: «Если враг не сдаётся — его уничтожают!» Но вместе с тем нельзя не видеть и того, что действия, организованные «медицинским антибольшевистским фронтом», действительно имели место, действительно имели отдельные успешные результаты и действительно имели смысл, который можно квалифицировать как знак хоть в какой-то мере свершившейся классовой мести людей обречённых революцией 1917 года на уничтожение!
Глава 5
Маятник Горького
С февраля по октябрь 1917 года две русские революции перевернули мир. Буревестником, Пророком, а потом вдруг Критиком этих революций был Горький. В нём, как в адовом котле, смешались голоса и отголоски тех дней, отзвук которых до сих пор бурлит непримиримыми идеями и кровью. В нём до последнего часа жили и не могли найти общий язык Уж и Сокол, вобравшие в себя все «за» и «против» уходящего Старого и наступающего Нового мира.
Жизнь — как маятник: туда — сюда… И обратно!
Жизнь порою страшно похожа на маятник, жизнь Горького — особенно. Случайно попавшиеся мне в архивах разноликие откровения и наблюдения его жизни — очень отрывочны. Но это только обостряет восприятие не связанных между собой архивных документов и даёт возможность подумать над тем, над чем обычно, вспоминая Горького и Революцию, не думают.
Между тем в этих архивах скрыты такие факты, которые невообразимо отразились на всей его жизни и во всём, что он написал. А значит — отразились и на нас. Если представить их в виде цепи событий, то звенья её можно было бы назвать так: заражение чахоткой и «заражение» марксизмом, которые время от времени угасают и даже сходят на нет, но потом вспыхивают вдруг с новой силой. И так — без конца, словно и то, и другое — в крови человека! Впрочем, вряд ли можно сравнивать марксизм с болезнью…
Чего только не приходится переживать русскому писателю, если, конечно, есть у него совесть. Совесть же, как известно, не даёт покоя до гробовой доски! Поэтому жизнь Горького особенно похожа на маятник…
Как в последние десятилетия XX века молодёжь почти повально «ударилась в рок-музыку», так в конце века XIX многие молодые люди больших городов, особенно студенты, «с головою ушли в марксизм». Это было необъяснимое наваждение, когда юноши и девушки даже из очень богатых семей поклонялись культу Маркса. В заброшенных домах на убогих окраинах устраивались полуночные тайные чтения запрещённых книг. В них как новое откровение при свечах утверждалась мысль, что Призрак Коммунизма уже бродит по Европе…
Не был в стороне от того, таинственно витавшего в воздухе времени, романтического марксизма и испытавший на собственном опыте, что такое жизнь, юный Алексей Пешков, которому в недалёком будущем суждено было заявить себя автором произведений, наводящих на правительство ужас. «Песня о Соколе» (1895), «Песня о Буревестнике» (1901), пьеса «На дне» (1902) и в высшей мере революционная книга «Мать» (1906–07) принесли ему всемирную славу и имя — «великий пролетарский писатель Максим Горький».
А началось всё с того, что рано повзрослевший Алёша (примерно в 1886–1888 гг.) стал переписывать наиболее захватившие его места из подпольной брошюры «Царь-Голод». Революционный народоволец Алексей Бах(1857–1946), судя по всему, изложил в ней экономическую теорию Маркса настолько захватывающе, что 18-летний Пешков не мог не втянуться в распространение крамольных книг и листовок, и таким образом быстро оказался в числе самых действующих начинающих марксистов. Уже в октябре 1889 года его арестовали. Этот первый в его жизни арест был связан со следствием в Нижнем Новгороде по делу Николая Федосеева (1871–1898). Несмотря на то, что был года на три младше, Федосеев так сильно влиял на Пешкова, словно наводил на него какой-то политический гипноз. (Кстати, он же помог «заразиться» марксизмом и Ленину!)
Начавшиеся вскоре странствия по просторам Российской империи мало-помалу научили Алексея всматриваться в жизнь повнимательней и, что самое важное, сравнивать то, что он видел, с тем, что он читал. В итоге — маятник его романтических взглядов на происходящее пошёл в обратную сторону. В 1892 году, попав в Тифлисе в коллектив рабочих железнодорожных мастерских, он ещё продолжает свою революционную закалку в качестве пропагандиста новых идей, но здесь же уже по-настоящему проявляет он и своё «я». В тифлисской газете «Кавказ» печатает свой первый рассказ «Макар Чудра», подписанный псевдонимом Максим Горький. И этот рассказ (о жизни цыган)… уже не вписывается в рамки марксистского видения мира. Дальше — больше!
Наступает 1897 год. Маятник назревавших сомнений достигает, очевидно, крайней точки. Горький, хотя ему ещё нет и 30-ти, уже страшно болен тяжёлой формой туберкулёза. Находясь на лечении в Крыму, в Алупке, он начинает ругать марксизм и всех, кто хоть сколько-нибудь с ним связан, так, словно марксизм — болезнь, подобная туберкулёзу…
Я не верил своим глазам, когда в попавшемся мне в архиве февральском письме вчерашнего марксиста-романтика в адрес критика Скабичевского читал накануне ещё невообразимые строки: «Я — не марксист и оным не буду во веки, ибо считаю стыдом исповедовать марксизм по-русски и по-немецки, ибо я знаю, что жизнь творят люди, а экономика только влияет на неё…
Пансион, о котором я писал вам не суть дело Водовозовой, барыни столь же честолюбивой, как и не умной. Водовозова только дала несколько денег на сей пансион. <…> От души желаю, чтобы 20 т. Водовозовой елико возможно скорее были затрачены. И процентов бы ей не принесли — это вылечило бы её от увлечения марксизмом, носящего у неё характер поминок о муже. Денег у неё 300 т., по её словам.
Здоровье моё очевидно намерено пойти на поправку — прибавился в весе на 21/2 фунта и не харкаю кровью вот уже 10 дней…
А. Пешков»
После таких откровений становится понятно, почему перед этим, в январе 1897 г., он писал из Алупки тому же Скабичевскому следующее:
«Марксистам я не сочувствую… Всё это взятое вместе — марксизм, Гарин, Садовская (В. Поссе) — до кровохарканья плохо, на мой взгляд».
Пройдёт год, выйдет двухтомник очерков и рассказов Горького, которые принесут ему первую славу. А изданный в 1899 году 3-й том придаст такой вес, что с ним станут считаться даже Толстой и Чехов. Редкий интерес к трёхтомнику критики объяснят тем, что, начитавшись Ницше, Горький под углом зрения его философии смог раскрыть мир так называемых босяков и сделать их носителями новой морали, «свободной от условностей окружавшего их больного мира».