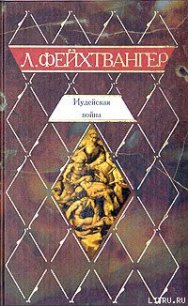Москва, 1937 год - Фейхтвангер Лион (серии книг читать бесплатно txt) 📗
Советские люди не представляют себе этого непонимания. После окончания процесса на одном собрании один московский писатель горячо выступил по поводу моей заметки в печати. Он сказал: «Фейхтвангер не понимает, какими мотивами руководствовались обвиняемые признаваясь. Четверть миллиона рабочих, демонстрирующих сейчас на Красной площади, это понимают». Мне тем не менее кажется, что к тому, чтобы понять процесс, я приложил больше усилий, чем большинство западных критиков, и, ввиду того, что советский писатель, который смог бы осветить мотивы признаний, пока еще не появился, я хочу сам попробовать рассказать, как я себе представляю генезис признания.
Суд, перед которым развернулся процесс, несомненно, можно рассматривать как некоторого рода партийный суд. Обвиняемые с юных лет принадлежали к партии, некоторые из них считались ее руководителями. Было бы ошибкой думать, что человек, привлеченный к партийному суду, мог бы вести себя так же, как человек перед обычным судом на Западе. Даже, казалось бы, простая оговорка Радека, обратившегося к судье «товарищ судья» и поправленного председателем «говорите гражданин судья», имела внутренний смысл. Обвиняемый чувствует себя еще связанным с партией, поэтому не случайно процесс с самого начала носил чуждый иностранцам характер дискуссии. Судьи, прокурор, обвиняемые — и это не только казалось — были связаны между собой узами общей цели. Они были подобны инженерам, испытывавшим совершенно новую сложную машину. Некоторые из них что-то в этой машине испортили, испортили не со злости, а просто потому, что своенравно хотели испробовать на ней свои теории по улучшению этой машины. Их методы оказались неправильными, но эта машина не менее, чем другим, близка их сердцу, и поэтому они сообща с другими откровенно обсуждают свои ошибки. Их всех объединяет интерес к машине, любовь к ней. И это-то чувство и побуждает судей и обвиняемых так дружно сотрудничать друг с другом; чувство, похожее на то, которое в Англии связывает правительство с оппозицией настолько крепко, что вождь оппозиции получает от государства содержание в две тысячи фунтов.
Обвиняемые были приверженцами Троцкого: даже после его падения они верили в него. Но они жили в Советском Союзе, и то, что изгнанному Троцкому представлялось в виде далеких смутных цифр и статистики, для них было живой действительностью. Перед этой реальной действительностью тезис Троцкого о невозможности построения социалистического хозяйства в одной, отдельно взятой стране не мог рассчитывать на продолжительное существование. В 1935 году, перед лицом возрастающего процветания Советского Союза, обвиняемые должны были признать банкротство троцкизма. Они потеряли, по словам Радека, веру в концепцию Троцкого. В силу этих обстоятельств, в силу самой природы вещей признания обвиняемых прозвучали как вынужденный гимн режиму Сталина. Обвиняемые уподобились тому языческому пророку из Библии, который, выступив с намерением проклясть, стал, против своей воли, благословлять.
Обвиняемый Муралов восемь месяцев отрицал свою вину, пока, наконец, 5 декабря не сознался. «Хотя я, — заявил он на процессе, — и не считал директиву Троцкого о терроре и вредительстве правильной, все же мне казалось морально недопустимым изменить ему. Но, наконец, когда от него стали отходить остальные — одни честно, другие нечестно, — я сказал себе: я сражался активно за Советский Союз в трех революциях, и десятки раз моя жизнь висела на волоске. Не должен ли я подчиниться его интересам? Или мне нужно остаться у Троцкого и продолжать и углублять его неправое дело? Но тогда имя мое будет служить знаменем для тех, кто еще находится в рядах контрреволюции. Другие, независимо от того, честно или нечестно они отошли от Троцкого, во всяком случае не стоят под знаменем контрреволюции. Должен ли я оставаться таким святым? Для меня это было решающим, и я сказал: ладно, иду и показываю всю правду». Показания Радека по этому пункту, более тонкие по форме, в основном повторяют ту же мысль. Речи обоих этих людей кажутся мне, оставляя в стороне процесс, интересными в психологическом отношении. Они наглядно показывают, до какого предела могут идти люди за человеком, в чье превосходство, способность к руководству и гениальную концепцию они верят, и где начинается поворот, на котором они его оставляют. Авантюристские и отчаянные средства, к которым решил прибегнуть Троцкий, после того как выяснилась ошибочность его основной концепции, должны были отпугнуть от него более мелких сторонников. Они стали считать его методы безумными. Они не отошли от него открыто уже раньше только потому, что не знали, как это технически обставить."Мы бы сами пошли в милицию, — заявил Радек, — если бы она не явилась к нам раньше", и это вполне вероятно. Ведь некоторые из их соучастников действительно раньше пошли в милицию, и таким образом заговор был раскрыт.
Возражения сомневающихся по существу правильны. Люди, верящие в свое дело, зная, что они обречены на смерть, не изменяют ему в последний час. Они хватаются за последнюю возможность обратиться к общественности и используют свое выступление в целях пропаганды своего дела. Сотни революционеров перед судом Гитлера заявляют: «Да, я совершил то, в чем вы меня обвиняете. Вы можете меня уничтожить, но я горжусь тем, что я сделал». Таким образом, сомневающиеся правы, спрашивая: почему ни один из этих троцкистов не сказал: «Да, ваше „государство Сталина“ построено неправильно. Прав Троцкий. Все, что я сделал, хорошо. Убейте меня, но я защищаю свое дело».
Однако это возражение венчает убедительный ответ. Эти троцкисты не говорили так просто потому, что они больше не верили в Троцкого, потому что внутренне они уже не могли защищать то, что они совершили, потому что их троцкистские убеждения были до такой степени опровергнуты фактами, что люди зрячие не могли больше в них верить. Что же оставалось им делать, после того как они стали на неправую сторону? Им ничего другого не оставалось, — если они были убежденными социалистами, — как в последнем выступлении перед смертью признаться: социализм не может быть осуществлен тем путем, которым мы шли — путем, предложенным Троцким, а только другим путем — путем, предложенным Сталиным.
Но даже если отбросить идеологические побудительные причины и принять во внимание только внешние обстоятельства, то обвиняемые были прямо-таки вынуждены к признанию. Как они должны были себя вести, после того как они увидели перед собой весьма внушительный следственный материал, изобличающий их в содеянном? Они были обречены независимо от того, признаются они или не признаются. Если они признаются, то, возможно, их признание, несмотря на все, даст им проблеск надежды на помилование. Грубо говоря: если они не признаются, они обречены на смерть на все сто процентов, если они признаются, — на девяносто девять. Так как их внутренние убеждения не возражают против признания, то почему же им не признаться? Из их заключительных слов видно, что такого рода соображения действительно имели место. Из семнадцати обвиняемых двенадцать просили суд принять во внимание при вынесении приговора, в качестве смягчающего вину обстоятельства, их признание.
Волей-неволей свою просьбу они должны были выражать приблизительно одинаковыми словами, и это, наконец, стало производить почти жуткое, трагикомическое впечатление. Во время заключительных слов последних обвиняемых все уже, нервничая, ждали этой просьбы, и, когда ее действительно произносили, — при этом каждый раз в неизбежно однообразной форме, — слушатели с трудом сдерживали смех.