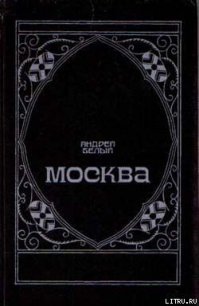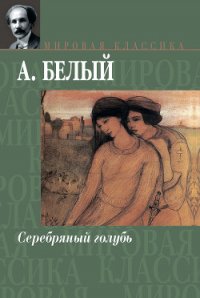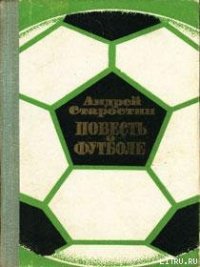Распутин - Амальрик Андрей Алексеевич (книги хорошего качества txt) 📗
В 1909 году Столыпин сказал: «Дайте правительству двадцать лет покоя… и вы не узнаете нынешней России!» Той России оставалось восемь лет, самому Столыпину — два года. Если взять не проектируемые им реформы и благородные речи, но то, что реально было сделано им, то окажется, что он не развязал, а скорее еще более связал три болезненных проблемы.
Во-первых, проблему правопорядка. Понимая необходимость сотрудничества между правительством и обществом, он, возможно, хотя бы ценой третьеиюньской кастрации хотел сохранить Думу. Возможно, чрезвычайными положениями и военно-полевыми судами, т.е. террором справа, он хотел прекратить террор слева. Однако, положив в основу власти нарушение закона и злоупотребление законом, соображения целесообразности, а не законности, он не мог рассчитывать на создание правового государства, в «третьеиюньской монархии» власть могла держаться только на силе. По словам И.Г.Щегловитова, столыпинского министра юстиции, Столыпин считал, что «когда в государственной жизни создается необходимость какой-нибудь меры — для таких случаев закона нет… если для него какая-нибудь мера представлялась необходимой, то он никаких препятствий не усматривал…». Да и его предшественник, а затем преемник Горемыкин считал, что «закон и незакон трудно чрезвычайно различить». Это вполне по-большевистски, и никакое прочное сотрудничество между властью и обществом на такой основе невозможно.
Во-вторых, крестьянскую проблему. 9 ноября 1906 года был распубликован указ, разрешающий свободный выход крестьян из общины с наделением землей, которая обращалась в их личную собственность. После одобрения указа обеими палатами он превратился в закон 14 июня 1910 года, который дополнительно установил обязательность перехода к личной собственности в тех общинах, где не было земельных переделов с 1861 года. Планы разрушения общины и уравнения крестьян в правах с другими сословиями были разработаны еще Сельскохозяйственным совещанием во главе с Витте. Столыпинский указ не уравнивал крестьян в правах, а разрушение общины исходило не столько из интересов крестьян, сколько из попытки оградить дворянское землевладение: превращая крестьян в частных собственников, Столыпин рассчитывал, что он привьет им уважение к принципу собственности и они, желая сохранить свою землю, не посягнут и на дворянскую. Конечно, раздел 130 тысяч поместий все равно не дал бы достаточно земли на 13 миллионов крестьянских дворов, в то же время погубив часть наиболее производительных хозяйств. Конечно, дворянское землевладение и без насильственного отчуждения сокращалось и могло бы практически исчезнуть к сороковым годам. Но спокойных десятилетий быть не могло — и лишь отчуждение дворянских земель могло психологически успокоить крестьян, снять в деревне болезненное противопоставление «нашего» и «барского», после чего только могло сельское хозяйство пойти по фермерскому пути. Без этого ни разрушение общины, ни поощрение переселенческого движения, ни продажа дворянской земли проблему не снимали. Не прошло и девяти лет, как «разумные и сильные» новые собственники чуть ли не впереди «слабых и пьяных» общинников бросились разорять дворянские усадьбы.
В-третьих, национальную проблему. Любой строй ищет надежную идеологическую опору — не удивительно, что по мере ослабления монархического принципа в России стал к началу XX века выдвигаться националистический. Опыт Столыпина в западных губерниях с сильным польским, литовским и еврейским элементом заставил его острее это почувствовать. Он выдвигал русский национализм как основу государственной политики, выступая против поляков и финнов, устранив всю Среднюю Азию от выборов в Думу и урезав представительство Кавказа и Польши. Его желание постепенно расширить права евреев этому не противоречило: он считал, что равноправие повело бы к ассимиляции евреев; как и для остальных «инородцев», путь к равноправию должен был идти через обрусение. Политика «Россия для русских», однако, и за «двадцать лет покоя» не превратила бы поляков или татар в русских, как она их за двести лет не превратила, но в то беспокойное время она только накалила национальные страсти и усилила центробежные силы. Скорее политика постепенной автономизации и федерализации — под общей властью царя — могла если не решить, то смягчить национальную проблему.
8 июля 1906 года в Петербурге и губернии вместо уже существующего положения об усиленной охране было введено положение о чрезвычайной. 12 августа, в три часа пополудни, у дачи министра внутренних дел на Аптекарском острове остановилась коляска, «жандармский генерал» остался в коляске, «ротмистр» подошел к крыльцу, штатский вошел в дом — и почти тут же последовал взрыв. Находящийся в приемной Преображенский офицер не слышал взрыва, но вдруг увидел, как его собеседнику снесло голову. Выходящие в сад стены дома рухнули, было убито 27 человек, 32 тяжело ранены, двое из них скончались в ближайшие дни. Террорист в штатском был убит, двое в военной форме скончались от ран. У маленького сына Столыпина было сломано бедро, у дочери раздроблены обе ноги. Когда солдаты выкопали ее из-под досок и мусора, она спросила: «Это сон?» «Мои бедные дети, мои бедные дети», — повторял Столыпин, сам не получивший ни одной царапины. Сын его поправился и дожил до преклонных лет — я встречался с ним в 1978 году в Париже, дочь навсегда осталась калекой. У ее постели он пригласил помолиться срочно вызванного из Покровского Григория Распутина.
Глава IX
Столыпин пригласил Распутина по совету царя или царицы, которые все более увлекались сибирским старцем. В 1906 году ему посвящены три записи в дневнике царя: «18 июля… Вечером были на Сергиевке и видели Григория… 13 октября… В 6 1/4 к нам приехал Григорий, он привез икону Св. Симеона Верхотурского, видел детей и поговорил с нами до 7 1/4… 9 декабря… Обедали Милица и Стана. Весь вечер они рассказывали нам о Григории».
Но царь и царица чувствовали, что, принимая «мужика», они нарушают неписаное правило царской изоляции. Для царей сложны простые вещи. Вырубова вспоминает, как Николай II позавидовал цветным носкам офицеров — у него самого всегда черные, поручить же купить цветные «вовлекло бы так много людей, что он и думать не хотел об этом». Распутин тоже был «цветными носками», получить которые путем обычной дворцовой процедуры было нелегко, поэтому его посещения обставлялись как контрабанда, вводился он через задние двери, записи в камер-фурьерских журналах делались редко. Но эта «секретность» скорее способствовала распространению «распутинской легенды».
«Он часто бывал в царской семье… — показывала Вырубова. — На этих беседах присутствовали великие княжны и наследник… Государь и государыня называли Распутина просто „Григорий“, он называл их „папа“ и „мама“. При встречах они целовались, но ни государь, ни государыня никогда не целовали у него руки». «Он им рассказывал про Сибирь и нужды крестьян, о своих странствиях. Их величества всегда говорили о здоровье наследника и о заботах, которые в ту минуту их беспокоили. Когда после часовой беседы с семьей он уходил, он всегда оставлял их величества веселыми, с радостными упованиями и надеждой в душе».
Царю Распутин давал то же, что когда-то «шептун» Мещерский, — уверенность. В разгар революции царь и царица были напуганы проповедью Волынского архиепископа Антония о «последних временах». «А я долго их уговаривал плюнуть на все страхи и царствовать. Все не соглашались. Я на них начал топать ногою и кричать, чтобы они меня послушались. Первая государыня сдалась, а за нею царь… Они у меня спрашиваются обо всем… О войне, о думе, о министрах», — рассказывал Распутин Труфанову в 1909 году. «Я ему говорю, и у нас были такие сцены, что он кидался на меня, хотел меня бить, а потом просил прощения со слезами», — рассказывал Распутин о своих отношениях с царем Манасевичу-Мануйлову в 1916 году. «Я знаю, что он иногда даже кулаком стучал… — говорил Белецкий. — Это была борьба слабой воли с сильной волей».