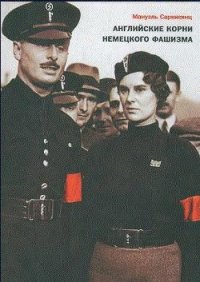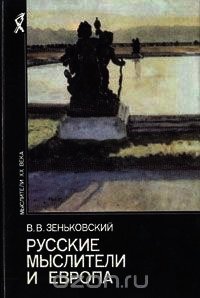Россия и мессианизм. К «русской идее» Н. А. Бердяева - Саркисянц Мануэль (книги онлайн бесплатно без регистрации полностью txt) 📗
Эту мысль развил и углубил русский философ Николай фон Бубнов {442}. По его мнению, марксизм потому-то и укоренился так глубоко в русском сознании, что ему самому не были чужды хилиастические мотивы [37]. Еще в 1928 году в Германии считалось, что «Россия проповедует сверхисторическую идею избавления мира, который кончается в тысячелетнем царстве» {443}. Америка же лишь шесть десятилетий спустя пришла к открытию, что «большевики — самые хилиастические левые» и что им благоприятствовала апокалиптическая атмосфера, сложившаяся в России после 1905 года. Ленину удалось использовать и направить в нужное русло народные эсхатологические чаяния {444}. «Ленин-юрист с духом хилиаста… воплотил трудом целой жизни хилиастическое видение революции в практическую организованную форму» {445}.
Но А. В. Луначарский, сделавшийся впоследствии народным комиссаром просвещения, уже в 1908 г. осознавал, что революция, которая предстоит России, пройдет скорее под религиозными, нежели под сугубо экономическими и социальными лозунгами — крестьянское большинство неминуемо окажет глубокое воздействие на революционную идеологию {446}. Там, где только можно, будут возникать апокалиптические движения, «исполненные диким фанатизмом» с тем, чтобы осуществить Волю Божью, разрушив культуру господ и основав на ее руинах идиллическое царство Божьей Правды. Так Луначарский представлял себе движущие силы грядущей революции. И призывал городской пролетариат, с его «великой новой религией» (развивающей традиционные религии и приходящей им на смену), пойти навстречу аналогичным крестьянским движениям. И хотя Ленин резко осудил Луначарского за такого рода воззрения, он едва ли случайно именно на него возложил впоследствии важнейшую миссию — внедрять большевизм в народное сознание. Примечательно, что Луначарский, уже находясь на посту наркома, писал о Достоевском, что тяготение последнего к социализму было обусловлено хилиастическими устремлениями {447}.
Но особенно наглядно иллюстрирует связь октябрьской революции с народным хилиазмом творчество крестьянского поэта Н. Клюева. Его «дядя… слыхать, был самосожженец… Для виду православные, родители Николая Клюева — староверы с уклоном в хлыстовство… Увлекается он и бегунами». Он родился неподалеку от Онежского озера; мировоззрение, унаследованное еще от Московской Руси, продолжало жить на родине Клюева еще в начале двадцатого столетия. В его поэзии апокалиптические темы переплелись с революционными — коммуна с царством («Царь-коммуна») {448}.
Уже в византийской политической теории прообразом земного царства было царство небесное — «осуществленная эсхатология: понятие, что преображение и „боговрастание“ человека возможно в земной жизни. Восточная Церковь чаяла возврата в райское состояние (вне рамок западных понятий о людской природе и божественной благодати), восстановления человека как подобия Бога, гражданина небесного царства, отраженного в земном {449}.
Теургический образ царя играл основополагающую роль в „теократических“ идеологиях XVI и XVII веков; в результате обмирщения, произошедшего в петербургский период, он не исчез, в революционных же доктринах девятнадцатого столетия (их антицерковная направленность легко объяснима — речь шла о церкви государственной и к тому же отвергавшей народные хилиастические устремления) он вновь оказался выражен вполне откровенно, лишь приобретя новый, светский облик. Таков основной мотив, звучащий у Герцена и Белинского и от них перешедший в позднейшую революционную традицию {450}. Представители последней немало внимания уделяли хилиастической теме, не выходя, правда, за пределы религиозного имманентизма {451}. Бердяев полагал, что хилиастический мотив стал основным и для русской литературы девятнадцатого века {452}. По мнению Зеньковского, если русская мысль проникнута „утопизмом“, то это потому, что она обращена к конечным целям истории {453}.
Тут — как в большей части литературы — утопия недостаточно четко отличается от эсхатологии и хилиазма. Даже новейшая парижская „История утопий в России“ {454} не проводит этого различия. Делалось обобщение, что все значительные русские мыслители были утопистами {455}. Даже в 2000 году в книге, изданной в Петербурге, говорилось: „Типологические черты российского социального утопизма сохранялись в более или менее неизменной форме на протяжении трех столетий“ {456}. Данный вывод был сделан под влиянием того обстоятельства, что „классики“ марксизма называли „утопизмом“ и народные движения, жившие ожиданием тысячелетнего царства.
На самом же деле „утопизм — это рационализм, доведенный до своего завершения, до логического конца“ {457}. В этом смысле для утопий характерны продуманные регламентации — проекты определенных мыслителей. Теоретически они могут быть „введены в действие“ в любое время, в любом месте — как бы административным порядком, „мудрым законодательством“. Напротив, хилиазм — это ожидание „тысячелетнего“ царства благодати в конце истории, в конце дороги, ведущей через пустыни и кровь мучеников праведных» {458}. Утопии — холодные проекты одиноких критиков; хилиазм — экстатическое представление масс.
Именно ослабление хилиазма после средневековья открыло дорогу рационалистическим утопиям Возрождения. Так петербургский отказ от телеологии Москвы как Третьего Рима открыл дорогу в Россию западноевропейским сциентистским утопиям {459}. Но неоплатонический космизм — вплоть до богоискательства — оставался в России (даже петербургской) более влиятельным, чем рационализм. В результате завезенные из-за границы утопии приняли черты традиционной, религиозно вдохновленной тематики хилиастических стремлений и чаяний райских земель, как бы модернизировав их {460}. Но, в целом, в петербургский период ожидание Царства Божьего на земле и тяга к райским землям имели гораздо более сильное влиятельнее в народе, чем утопические проекты — вроде проекта Щербатовского 1784 года {461}.
Утопизм в России — в противоположность Китаю — оказался несравненно слабее хилиазма христианского (в котором ее превосходят только Филиппины {462}). Ведь интеллектуально-рационалистический утопизм, культивируемый в России в восемнадцатом веке, оставался сугубо абстрактным достоянием немногих; по-настоящему революционную динамическую силу ему придал Бакунин {463}. Карл Мангейм считал анархизм Бакунина прямым продолжением хилиастической традиции {464}. Именно этот хилиастический «утопизм» стал играть решающую роль в духовной истории России.