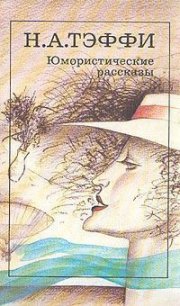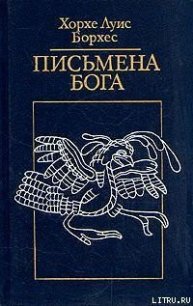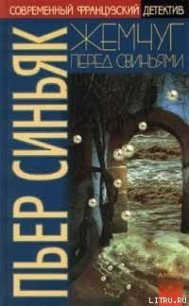Книга стыда. Стыд в истории литературы - Мартен Жан-Пьер (читать книги бесплатно полностью без регистрации сокращений .txt, .fb2) 📗
Беспокойный свидетель собственной десубъективации, разрывающийся между смирением и гордыней, пишущий человек тем самым оказывается странным образом похож на человека стыдящегося.
Сети бесчестья
О безотрадная весть,
Мать позора моего! Софокл, хор из трагедии «Аякс»[8]
«— Будто не знаешь, что твой стыд нам всем нести! — говорит один из женских персонажей Рушди. — Это бремя так к земле и гнет». Стыд — это не обязательно стыд за себя. Он может быть также стыдом по доверенности, стыдом в согласии с другими и для других. В испанском языке есть для этого замечательное обозначение: vergüenza ajena, буквально «чужой позор», или, точнее, стыд, который испытывают совместно по отношению к другому. Поэтому свидетель отводит глаза, тем самым избегая взгляда другого свидетеля. «Стыд не позволяет им смотреть друг на друга в ее присутствии, даже когда она спит»[9], — пишет Дюрас в романе «Летний вечер, половина одиннадцатого».
При этом коллективное пространство стыда в высшей степени иерархично. Другой, с которым мы встречаемся и здороваемся, которому подаем пить, — это еще и политическая инстанция. Занимая определенное общественное положение, он поглощает наше пространство и структурирует его. Его подавляющее могущество проявляется в мельчайших деталях повседневной жизни. Но в этом неразрешимом сцеплении стыдов никто не может каждый миг чувствовать себя хозяином положения. Властитель и сам — подданный своего вассала. Жан-Жак в роли слуги, благоговеющий перед м-ль де Брей, испытывает стыд от того, что находится не на высоте. В один миг он исправляет дело: продемонстрировав перед всеми присутствующими свою ученость и познания в области французского языка, он наконец-то обращает на себя внимание молодой госпожи. Но тут же, подавая ей пить, он проявляет неловкость, проливая воду на тарелку и даже ей на платье. Тут уж сама м-ль де Брей «покраснела до корней волос». Снова покраснел и подросток.
Значение урока, который Пруст получил от Габриэля де Тарда: отношения между двумя индивидуумами в первую очередь сводятся к взаимной оценке социального статуса, — простирается куда дальше, чем мы это себе представляем. Ведь первый взгляд, которым два человека смеривают друг друга (речь, стиль одежды, цвет лица, походка, манеры), можно рассматривать как один из источников стыда — в соответствии с принципом социальной доминации, предполагающим немедленное восприятие с одной и с другой стороны чувства превосходства или подчиненности. То, что Пруст называет «углом зрения социального амфитеатра»[10], оптика — она же акустика — культурной, географической, символической принадлежности порождает высокомерие или смущение. Всякое тело притягивает к себе взгляды, но одновременно прислушивается к другому с его слабостями и преимуществами: мы слышим акцент, провинциализмы, тон и неумелое пение нижестоящих. В «Поисках утраченного времени» Пруст выразительно и с юмором описывает, каким образом один из Германтов, несмотря на молодость, всем телом усвоив чувство превосходства, внушенное ему семьей, умел, подобно своим предкам, одним-единственным взглядом подчинять себе существ, которые не принадлежат к его клану и которых ему представляют (в данном случае повествователя): «Германт бросал на вас взгляд с таким видом, как будто вовсе не собирается с вами здороваться, — взгляд, обычно голубой, неизменно холодный, как сталь, — словно желая добраться до самых глубин вашего сердца». Рукопожатие, на которое он расщедривался, с высоты продемонстрировав таким образом свое превосходство над другим, представляло собой фехтовальный выпад, совершенный на расстоянии, которое «казалось огромным при рукопожатии»: одновременно юный Германт «облетал взглядом самые тайники вашей души и вашу порядочность».
Кроме того, можно было бы сказать, что во всяком обществе на разных ступенях есть свои неприкасаемые, или буракумин (бывшая японская каста париев, когда-то допускавшаяся только до грязной работы), поскольку тщательно разрабатываемые ритуалы соблюдения дистанции, сдержанности или сегрегации повсюду связаны с телом и социальным происхождением, грязью и родословной, чистотой и нечистотой. И везде продолжение традиции обеспечивается тайной, вернее, запирательством.
Демократический роман дает нам явственно ощутить ту атмосферу отказа, в которой купается общественный стыд, поддерживающий застылый код отношений. Так, повествователь «Поисков…», которому не терпится узнать, вправду ли он получил долгожданное приглашение к принцессе Германтской, слышит от герцогини Германтской: «Надо же было вбить себе в голову, что вас не пригласили! Сюда всех приглашают!»[11] Условие этого «всех», которому не отвечает повествователь, герцогиня не считает нужным уточнить, настолько в ее глазах оно само собой разумеется: это принадлежность к благородным семействам Сен-Жерменского предместья — и в этом случае действительно в приглашении нет нужды, «всех» и так всегда приглашают. Лживость светских речей, как и лицемерная аристократическая любезность, призвана замаскировать унижение, вызванное отвержением и социальной доминацией.
Таким образом, проявления стыла, которые можно было счесть сугубо индивидуальными, оказываются глубоко исторически и социально обусловленными. Игры взгляда и слуха, непроизвольно подчиняющиеся диктату общества и его истории, создают силовые линии. Но навязанные ситуации могут выворачиваться наизнанку. Вплоть до того, что некогда колонизированный другой, в свою очередь, вызывает неведомый ранее стыд. Разве не новый взгляд черного человека вызвал у Арто, Супо и Пейриса (а ведь к этому, особенно у последнего, прибавляется стыд быть интеллектуалом, буржуа или походить на персонажа какого-нибудь писателя) выделение стыда быть белым и представителем Запада, влечение к негрству? «Три тысячи лет, — пишет Сартр, — белые наслаждались привилегией видеть, оставаясь невидимыми: у них был чистый взгляд, свет их глаз выхватывал любой предмет из первородной тени, белизна их кожи — это тоже был взгляд, концентрированный свет. […] Сегодня эти черные люди смотрят на нас, а наш взгляд возвращается в наши глаза».
* * *
Стыд — самая всеобщая вещь на свете, но поводы краснеть и манера отводить глаза различаются в зависимости от народа и культуры в соответствии с ритмом великих переломов Истории. Следовало бы добавить: в зависимости от обычаев, образа мыслей и мифологии. Именно социальные нормы и установления определяют в ту или иную эпоху, в той или иной части света особенности чувства стыда и формы проявления достоинства. Тимэ у Еврипида — не то, что нынешний стыд, в викторианской Англии и послевоенной Японии краснели совсем не из-за одного и того же, и само слово расцвечивается многообразными смыслами. Каждая эпоха, каждая культура ограничивает свободу писать горизонтом вымыслов, тайн и запретов. Готорн был одержим своими пуританскими предками. Анни Эрно мучительно переживала свое воспитание девочки из французской глубинки. Гойтисоло осознал себя гомосексуалистом во франкистской Испании. Тоталитарный террор, ужас Освенцима и память о нем, травма, нанесенная бомбардировкой Хиросимы, придали иное содержание стыду быть человеком (как и стыду сделаться писателем).
Как правило, стыд выбирают не в большей степени, чем язык или эпоху. Именно из-за Катастрофы Георг Артур Гольдшмидт (немецкий еврей, чьи полностью ассимилировавшиеся бабушка и дедушка были при рождении крещены в протестантизм), во время войны нашедший приют во Франции в савойском интернате, внезапно испытал стыд своего родного языка — немецкого. Он стал для него (как и для Жана Амери, австрийского интеллектуала, не знавшего о своем еврейском происхождении) запрещенным языком, «ударом ниже пояса»: «Никто вокруг меня не произносил ни слова на немецком, который ассоциировался с позором оккупации, и это ощущение позора невозможно было никому объяснить: ведь именно мои „соотечественники“, или, как их называли нацисты, Volksgenossen, оккупировали страну, и мне давали это понять». На протяжении пяти лет он не говорил народном языке: «Стыд видеть немецкие таблички на парижских памятниках соединялся, сливался со стыдом самому находиться внутри этого языка».