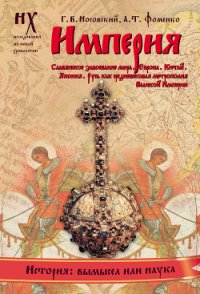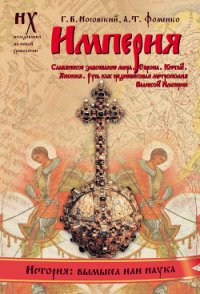Мир в ХХ веке - Коллектив авторов (список книг TXT) 📗
Нельзя отрицать роль “внешних” факторов и в процессе перехода от тоталитарных режимов к системам представительной демократии в Испании, Португалии, Восточной Европе и в СССР. Но здесь они сыграли косвенную роль. С одной стороны, часть правящих элит этих государств стремилась интегрироваться в мировую экономическую систему и занять в ней конкурентоспособное положение. С другой, финансовая и как следствие экономическая зависимость от западных держав и мировых рынков ослабляла монолитность режимов, уже переживавших внутреннюю эрозию и совершавших постепенную эволюцию к авторитаризму.
И все же в большинстве случаев тоталитарные системы власти рушились в результате постепенных процессов демонтажа изнутри, которые осуществлялись частью правящих классов, не удовлетворенных прежними методами своего господства. Отказ от прежних политических форм мог при этом происходить внешне резко и драматично (так называемые “бархатные революции” в странах Восточной Европы, события августа 1991 г. в СССР), даже под давлением “снизу”, но ход событий в целом нельзя считать революционным. Он все время оставался под контролем одного и того же правящего класса; власть переходила от одной его группировки к другой, механизмы господства изменялись “сверху”, а социальные движения использовались “демократическим” крылом этого класса для отстранения “консервативных” конкурентов и маргинализировались. Альтернативные, самоуправленческие тенденции были быстро нейтрализованы и не смогли наложить на развитие событий свой отпечаток. В результате на место однопартийных диктатур пришли структуры многопартийной демократии.
Тоталитаризм и демократия. Альтернативы тоталитаризму
Вопрос об эволюции тоталитарных режимов и о переходе от демократии к тоталитаризму и обратно заставляет обратить более пристальное внимание на проблему соотношения тоталитаризма и демократии.
Широкое распространение получило представление о том, что эти понятия противостоят друг другу, что “демократия и/или тоталитаризм — эта дихотомия стала стержнем политической истории Европы XX века” [148]. Очевидно, что на уровне политических механизмов принятия решений и их легитимации речь идет о совершенно разных моделях государственного устройства. Демократическое государство — это система представительного правления, при котором власть ссылается на “волю народа”, выявленную в ходе голосования и выбора между различными проектами и программами. Тоталитарный режим не нуждается в подобном выявлении и не допускает формулирования и выдвижения различных сценариев развития социума, отличных от тех, которые провозглашены правящими кругами. В то же время тоталитарные тенденции, присущие самой индустриальной цивилизации, носят более глубинный характер. Они проявились не только в странах, где существовали фашистские или государственно-”коммунистические” диктатуры, но и при системах представительной демократии.
Со второй половины 30-х годов многие философы и политологи стали высказывать мысль о том, что рост этатизма, национализма и манипулирования общественным сознанием в столь разных странах не случаен. В сталинской тирании, в фашистских диктатурах и в государственном регулировании в западных демократиях они увидели одну и ту же тенденцию к новой системе господства — “управляемому миру”, “бюрократическому коллективизму”, “авторитарному государству” [149]. Исследователи сравнивали экономическую и социальную политику демократических и тоталитарных режимов и нередко констатировали, говоря словами американского экономиста П. Маттика, “что мы в США делаем некоторые вещи, которые были сделаны в России и даже кое-что из того, что делается в Германии при Гитлере. Но мы делаем это пристойным образом” [150].
В государствах с демократическим политическим устройством тоже обнаруживались тоталитарные проявления и элементы. Важный вклад в анализ этого феномена внесли философы так называемой “Франкфуртской школы”. «Мы не замечаем, — писал Э. Фромм, — что стали жертвами власти нового рода. Мы превратились в роботов, но живем под влиянием иллюзии, будто мы самостоятельные индивиды… Индивид живет в мире, с которым потерял все подлинные связи, в котором все и вся инструментализированы; и сам он стал частью машины, созданной его собственными руками. Он знает, каких мыслей, каких чувств, каких желаний ждут от него окружающие, и мыслит, чувствует и желает в соответствии с этими ожиданиями, утрачивая при этом свое “я”…» [151] Эти явления были связаны прежде всего с дальнейшим усилением контроля над социальной жизнью со стороны государства и крупных экономических структур и комплексов, с мощным воздействием на человеческую личность средств массовой информации, господствующей системы норм и ценностей. “Современный человек выказывает авторитарную готовность ориентировать свое мышление и поведение на нормы, предписанные ему извне… Эти тенденции можно наблюдать повсюду в индустриализированном мире, совершенно независимо от политической системы. Так, немцы… были подготовлены к фашистской регламентации общей структурой современного общества. Они привыкли принимать модели, внушаемые им радио, фильмами и иллюстрированными еженедельниками задолго до того, как услышали фюрера”, — констатировал М. Хоркхаймер [152].
После второй мировой войны “франкфуртцы” пришли к следующему выводу: было бы неверно полагать, что “с военным поражением фашистских агрессоров вся проблема решена раз и навсегда… Легко доказать, что ни глубинные социальные корни, ни психологические структуры (тоталитаризма) не устранены” [153]. Исследованием тоталитарных тенденций в современных западных режимах представительной демократии занялся философ Г. Маркузе. Он пришел к заключению, что сама индустриальная эпоха склонна к тоталитарности даже там, “где она не произвела на свет тоталитарных государств” [154]. Значительный подъем уровня жизни в развитом индустриальном обществе и стимулирование спроса сформировали тип агрессивного потребителя, заинтересованного в нормальном функционировании системы, которая манипулирует индивидуальными и общественными потребностями и нормами поведения с помощью современной техники и гигантского аппарата воздействия на сознание. “…Технологическая реальность вторгается в… личное пространство и сводит его на нет. Массовое производство и распределение претендуют на всего индивида, а индустриальная психология уже давно вышла за пределы завода. Многообразные процессы интроекции кажутся отвердевшими в почти механических реакциях. В результате мы наблюдаем не приспособление, но мимесис: непосредственную идентификацию индивида со своим обществом и через это последнее с обществом как целым” [155].
Послевоенные демократические режимы извлекли уроки из “великого кризиса” 1929–1933 гг., из этатизации хозяйства в 30-е годы, из “социалистического строительства” в СССР и из “военного кейнсианства” фашизма. Накопленный опыт государственного вмешательства в экономику и социальную сферу, опробованные механизмы регулирования стали частью модели так называемого “государства опеки (благосостояния)” или “социального государства”. В фашистском варианте и в сталинской системе моменты открытой репрессии преобладали над интегрирующими. Система демократического “социального государства” действовала, на первый взгляд, скорее методами интеграции, а не открытой репрессии, но это — интеграция внушенная и стимулированная. Послевоенный этатизм и “дирижизм” на Западе зиждился на массовом производстве для массового потребления. В его основе лежала психология и идея лояльности по отношению к “своему предприятию”, преданности “своей стране” и делу процветания ее хозяйства. Опираясь на сравнительно длительный экономический рост и на эксплуатацию “третьего мира”, демократические индустриальные государства не только несравнимо расширили свое вмешательство в экономику (вплоть до огосударствления целых отраслей), но и играли роль социального регулятора, воспринимая себя “как замену общества” [156]. Они взяли на себя управление межклассовыми и межгрупповыми отношениями в рамках своего рода “демократического корпоративизма” и “социального партнерства” между капиталом и трудом, перераспределяли общественное богатство посредством налоговой системы и социального обеспечения. Результатом стали сокращение оппозиционного потенциала в обществе, добровольное подчинение масс государственному диктату. Все механизмы и формы представительной демократии остались в силе, но возможность и желание выбора радикальной альтернативы системе уменьшились; размывались различия между предлагаемыми вариантами политического, экономического, социального и духовного развития (феномен “инволюции демократии”) [157].