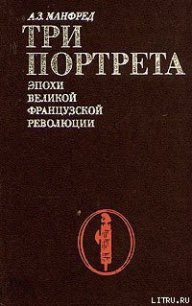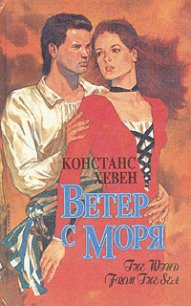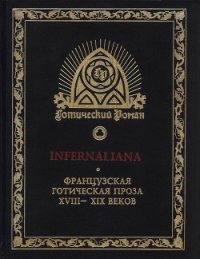Культурные истоки французской революции - Шартье Роже (электронная книга txt, fb2) 📗
В мае 1774 года, во время болезни Людовика XV {189}, Арди записывает: «Что ни день, арестовывают несколько человек за то, что они слишком вольно рассуждают о болезни Короля, — вероятно, для острастки, ведь число недовольных гораздо больше. Рассказывали, что на улице Сент-Оноре какой-то человек обронил в дружеской беседе: “А мне-то что за дело? Хуже, чем сейчас, все равно уже не будет”». «А мне-то что за дело»: между жизнью обычного человека и историей французских королей пролегла пропасть. С одной стороны, короля теперь представляют себе не иначе как частным лицом, чье физическое тело, страждущее или пышущее здоровьем, утратило всякое символическое значение. С другой стороны, человек с улицы проводит четкую границу между собственной участью и судьбой августейшей особы. Простой люд перестал мыслить свою жизнь как часть общей судьбы, которая находит свое выражение в истории короля.
После смерти короля книготорговец пишет: «Народ нимало не удручен кончиной государя, доброго по своей природе, но слабого и, к сожалению, давно уже павшего жертвой своей беспорядочной страсти к женщинам, которую разжигали в нем угодливые придворные, желавшие отвлечь его от дел, дабы возвыситься самим. Более того, народ беззастенчиво радуется, что у него сменился господин». Две эти противоположные реакции весьма показательны. Арди, пытаясь оправдать государя, повторяет старый мотив о короле, ставшем игрушкой в руках своих приближенных, которые, чтобы упрочить свое положение, потакают распутству. Позиция, которую, судя по его описанию, занимает народ, наоборот, свидетельствует о разрыве уз привязанности, на которых держалась символика монархии, где особа короля олицетворяет государство (физическое тело короля является воплощением политического тела королевства).
Справедливо ли делать вывод о том, что отношения между королем Франции и его народом в 1750-е годы коренным образом изменились? Справедливо ли утверждать вслед за Дейлом К. ван Клеем, что «дело Дамьена свидетельствует о том, что в 1757 году крамольные речи народа направлены непосредственно против монархии», и что «это началось незадолго до 1757 года и в этом отношении 1750-е годы можно назвать переломными» {190}? Похоже, что именно начиная с середины столетия представителей власти (прокуроров и адвокатов, которые представляют интересы короля в Парламенте, квартальных комиссаров в Париже, инспекторов и их шпионов) охватывает сильное беспокойство по поводу крамольных речей, слухов о заговорах, бесед, где бранят короля. Значит ли это, что произошла полная и окончательная «десакрализация монархии»? Не обязательно, причем по трем причинам.
Степень разлада
Прежде всего, Париж — это не все королевство. Конечно, «поносные речи» можно услышать везде, — где только не хулят короля в 1757—1758 годах: его открыто бранят в кабачке возле Шато-Гонтье, в другом кабачке — под Жизором, в Клермон-Ферране, в Майенне, в кабачках Сезанна в Бри {191}. Однако только в большом городе, где происходит политический и религиозный кризис, они образуют «мнение», которого опасаются полицейские власти и судебное ведомство, «мнение», которое питается слухами, распространяющимися от улицы к улице, из квартала в квартал и которое готово перейти от слов к делу.
С другой стороны, не надо считать, что крамольные речи аккумулировали народный гнев и с 1750-го по 1789 год все шире и шире распространяли неприязнь к королю. После 1774 года, в последние пятнадцать лет перед Революцией, высказывания и воззвания против короля, судя по всему, не так часты и не так резки, как те, которые обличали пороки Людовика XV. Янсенистский конфликт утих, недовольство ценами на зерно между мучной войной 1775 года (разгоревшейся из-за того, что Тюрго, несмотря на недород, разрешил свободную торговлю зерном) и резким подорожанием 1778 года улеглось, и особенно ожесточенные нападки на монархию, похоже, прекратились. Итак, в эти годы имеет место совершенно различное отношение к двум королям: гневные памфлеты обличают распутство и слабохарактерность покойного короля (таковы «Пышные празднества Людовика XV» — книга, которая в 1782—1784 гг. пользуется огромным спросом в лавке Мовлена, торговца запрещенными книгами в городе Труа) {192}, меж тем как правящий государь не вызывает особой враждебности. Это резкое отличие можно истолковать как подтверждение гипотезы, согласно которой тексты, оскорбляющие королевское достоинство, обязаны своим успехом не столько новым представлениям, сколько охлаждению, которое произошло раньше.
Наконец, так ли достоверно, что французы XVIII столетия до 1750 года были твердо убеждены в том, что власть их государя священна? Вопрос может показаться излишним, если вспомнить, что французский король — единственный (кроме английского), кто доказал, что обладает чудотворной силой (у него был дар излечивать золотуху простым прикосновением), обличающей священную и даже почти жреческую природу его власти. Короли до Людовика XVI творили чудеса — это свидетельствует о том, что миропомазание при венчании на царство и (или) заступничество святого Маркуля (святой целитель, мощам которого поклоняется каждый король после венчания на царство) сообщали королю сверхъестественную силу, а его власти, равно как и его особе — священный ореол. «Представление о сакральности королевской власти, столько раз утверждавшееся средневековыми авторами, остается неоспоримой, постоянно подчеркиваемой истиной и в Новое время» {193}.
Тем не менее справедливо ли делать вывод о сакрализации тела монарха и о том, что все верили в короля как в Бога? То, что королей все чаще называют «богами во плоти» (по выражению одного юриста в 1620 г.) {194}, само по себе еще не значит, что люди понимают эти слова буквально. По мнению некоторых историков, такие вещи, как чисто умозрительная и фантастическая идея о сверхчеловеческой природе короля, или погребальные обряды, опирающиеся на учение о двух телах короля — физическом, смертном и бренном, и политическом, которое бессмертно, — не несут в себе подлинной политической сакрализации королевской особы. Ведь коль скоро, как пишет Ален Буро, «мысль об институте не пробуждает никакого религиозного чувства», то отношение подданных к королю нельзя представлять себе как отношение верующих к религиозной святыне {195}. А если нет речи о сакрализации, то независимо от того, по каким причинам она невозможна (из-за нерешительности самой Церкви, которая не спешит признавать, что короли поставлены непосредственно Богом {196}, или из-за уверенности, что тела всех смертных ждет общая участь и короли тоже не минуют смерти), следует очень осторожно выбирать слова и для обозначения процесса, который ослабляет узы между королем и его подданными. Быть может, термин «десакрализация» не совсем подходит, ибо он предполагает, что прежде особа короля была священной, пожалуй, точнее будет сказать, что народ разлюбил короля и разочаровался в нем — такое уже бывало не раз (подобную неприязнь вызывал и Людовик XIV), и это приучило рядовых людей середины XVIII века мыслить свою жизнь отдельно от судьбы государя?
Традиционный монархизм и забота о себе
Показательный пример такого отчуждения — стекольщик Жак-Луи Менетра. Его «Дневник» и другие писания полны традиционных изъявлений преданности государю, и их автора никак нельзя заподозрить в неискренности. В 1763 году он возвращается из Шатийона в Париж, «чтобы увидеть открытие конной статуи Людовика XV»; в 1770 году он вместе с супругой присутствует на «злосчастном празднестве по случаю бракосочетания Дофина» (будущего Людовика XVI), омраченном давкой и сумятицей, в которой погибли 132 человека и несколько сот были ранены («Эта ночь развлечений, обернувшаяся ночью траура, [...] мы могли лишь скорбеть об этом трагическом празднике, который стал предвестием череды несчастий, обрушившихся на французов»); в 1781 году он сочиняет поэму в честь рождения дофина: «Господь внял нашим мольбам. Он послал нам дофина. Да здравствует отпрыск славного рода Бурбонов!» {197}. Так что у него мы не находим ни крамольных речей, ни дерзких высказываний, о которых докладывает полиция и пишут летописцы. Вот что в феврале 1763 года пишет Барбье о церемонии открытия памятника Людовику XV, на которой присутствует и Менетра: «23-го дня сего месяца конную статую Людовика XV водрузили на пьедестал, стоящий на новой площади, напротив разводного моста в Тюильри. Чтобы доставить эту статую из мастерской, которая находится в Руле, потребовалось три дня. Собралось много народу: все хотели посмотреть, как под руководством плотника из Сен-Дени, человека весьма сведущего, будут устанавливать статую на пьедестал. Г-н королевский наместник в Париже, купеческий старшина и эшевены расположились под навесом: г-жа маркиза де Помпадур, г-н герцог де Шуазель, маршал принц де Субиз и другие. Но поскольку, когда стекается много народу, в толпе всегда находятся фрондеры и злоумышленники, то говорят, что не то по пути, не то уже на площади было арестовано несколько человек, которые неподобающим образом рассуждали о том, что статуя едет слишком медленно. Кто-то глумливо заметил, что король едет так, как его везут; еще кто-то — что ему будет трудно проехать мимо особняка г-жи де Помпадур не останавливаясь; что для того, чтобы взгромоздить его на пьедестал, его окружили четырьмя лебедками — намек на министров, окружавших его при жизни; говорили и другие мерзости» {198}.