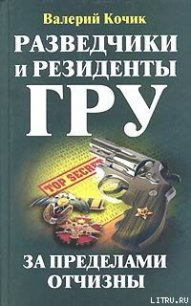Среди свидетелей прошлого - Прокофьев Вадим Александрович (бесплатные онлайн книги читаем полные .TXT) 📗
И не случайно критик Страхов утверждал, что новые народы будут изучать если не историю России, то русский народ, его душу по «Войне и миру».
Толстой работал, как настоящий многоопытный источниковед. Он отбирал одни материалы и отвергал другие; если свидетельства участников Бородинского сражения вдруг начинали походить на описания Михайловского-Данилевского или Глинки, Толстой решительно их отбрасывал. Написанное позже стало для участника собственным мнением, он подпал, как говорит профессор Л. В. Черепнин, под «гипноз письма».
Но на этом пока закончим разговор о художниках. Ведь принято считать, что это особая категория людей, что их вдохновение часто вспыхивает по причинам, не всегда понятным для всех, не обладающих способностью к образному мышлению.
Вероятно, историки-ученые в архивах меньше всего напоминают вдохновенных творцов. Скорее походят они на трудолюбивых пчел, собирающих с «тысяч венчиков» микроскопические капельки нектара знаний о прошлом. Впрочем, так это или нет, пусть судит читатель по следующему нашему рассказу.
«В ТРУДАХ ОТ ЮНОСТИ МОЕЙ…»
Стол как стол. Теперь таких уже не делают, вышли из моды. А в прошлом столетии их можно было найти во многих домах и канцеляриях России. Но этот стоит в архиве, и, наверное, он один из немногих столов, удостоившийся чести быть причисленным к архивным, а не к музейным реликвиям.
Раньше он был просто мебелью, значившейся в инвентаризационной ведомости Московского главного архива министерства иностранных дел. Наверное, под каким-то там номером стояло: «Стол письменный, крытый зеленым сукном» — или что-либо в этом роде.
Теперь же в Центральном государственном архиве древних актов в Москве он стоит на почетном месте, в кабинете директора. О нем говорят с уважением — ведь это стол, за которым 30 лет проработал Сергей Михайлович Соловьев.
Столы не умеют разговаривать, и они в отличие от школьных парт редко бывают изрезаны ножами. И никто не пишет на зеленом сукне черными чернилами своих инициалов, не поверяет столам своих дум.
И все же этот стол очень красноречив. Потертый, усталый.
А если бы он умел рассказывать!
Он познакомился с Соловьевым еще в те дни, когда Сергей Михайлович работал над своей магистерской диссертацией «Об отношениях Новгорода к великим князьям».
Как много людей мечтали, сидя за своими столами! Мечтали над документами, мечтали о будущей своей ученой работе. Сергей Михайлович тоже мечтал, но по-иному. «Отвлеченности были не по мне, я родился историком». Он мечтал скорее закончить диссертацию, чтобы взяться за работу, в необходимости которой был уверен.
Работа эта должна называться «История России с древнейших времен». Его отговаривали, ему даже мешали. Мешал не кто-нибудь, а Погодин, занимавший кафедру русской истории в Московском университете. Погодина вполне устраивала фактологическая, бьющая по чувствам, но не дающая простора мысли «История» Карамзина. Соловьев говорил: «У Карамзина я набирал только факты: Карамзин ударял только на мои чувства…»
Погодин давно заметил Соловьева. Кажется, это был единственный студент, который осмеливался подсказывать профессору факты прямо на лекции.
Зато как он слушал, не проронив ни слова, лекции Грановского!..
Нет, не трогало этого студента красноречие Погодина, не захватывала красота описаний Карамзина. Впоследствии он писал: «…на историю смотрели преимущественно как на художественное словесное произведение». А он хотел заниматься историей, наукой. Он хотел думать над русской историей, Карамзина же можно было только читать. И он прочел его еще в юности раз этак двенадцать.
Погодин забеспокоился, когда Соловьев взялся за диссертацию. Рос конкурент, который может вытеснить его с кафедры. Погодин исподтишка стал мешать Соловьеву. Но молодой диссертант не обращал на профессора внимания.
Погодин не раз елейно спрашивал Соловьева:
— Что же вы, пишете диссертацию, а со мной о ней никогда не поговорите, не посоветуетесь?
Сергей Михайлович догадывался, что «советы» профессора могут увести его далеко, а потом ему хотелось дойти до всего самому. Его не устраивали уже известные, опубликованные материалы, он уже полюбил свой стол в архиве.
— Я не нахожу приличным советоваться, профессор, потому что хорошо ли, дурно ли напишу я диссертацию, она будет моя, а стану советоваться с вами и следовать вашим советам, тогда она не будет уже вполне моя.
Защита прошла блестяще. Но Соловьев опять уже за своим столом в архиве. Быстро пишется докторская диссертация. А вот и Погодин получил отставку. Его место занял Соловьев.
Он не красноречив. Он не растекается мыслью по древу. Краток, лаконичен, логичен. Он думает вслух, он пролагает студентам дорогу к обобщению, к пониманию исторических закономерностей.
И снова архив.
Снова стол. Загруженный, заваленный десятками, сотнями документов. Стол кряхтел, ему была не под силу такая тяжесть. Ученый методично, документ за документом, день за днем, вгрызается в прошлое отечества. А число архивных документов, никем никогда не обследованных, росло и росло.
Сначала Соловьеву казалось, что «История России» вырастет из хорошо обработанного университетского курса. И он его отрабатывал.
Но скоро понял: университетский курс можно будет создать только после подробной, доскональной обработки вот этих бесчисленных груд документов.
И он уже знал теперь, какова должна быть мера труда, вложенного в эти документы.
Свитки, столбцы, отдельные листы, какие-то уродцы книги, у которых высота превосходит ширину, золотые и позолоченные ковчежки, гербовники, летописи, евангелия, четьи-минеи. Он обходил хранилища архива и подсчитывал годы жизни. Годы, которые он проведет здесь, за этим столом. Но годов не хватало, а стеллажи, шкафы, полки тянулись, громоздились друг возле друга, терялись в полутьме неразведанных углов.
Труд, на осуществление которого не хватит жизни.
Он походил сейчас на человека, готовящегося запереться от жизни в келье монастыря. И не запирался, не хотел запираться от жизни, где готовились реформы, бушевала война, шли народные движения и остро, бурно била общественная мысль.
Вспомнились Берлин, Гейдельберг, Париж, Прага. Он успел побывать в этих городах как домашний учитель семьи графа Строганова. Вспомнились и лекции Гизо, Мишле — тех самых, знаменитых, чьи исторические концепции выросли на дрожжах Великой французской революции.
Но только на минуту ему пригрезились парижские бульвары, пражские холмы, берлинский зоопарк и растворились в полутьме архива. Зато он пишет о реформах Петра, хотя скоро с горечью скажет: «Преобразования производятся успешно Петрами Великими, но беда, если за них принимаются Людовики XVI или Александры II».
И снова тьма хранилищ. Шорохи. Не то мышей, не то оживающих бумаг.
Он решил, что проведет здесь жизнь. Но это не было бегством от жизни. Когда свыкся с этим решением, рассказал о том, как пришел к нему. Рассказал в «Записках» — «Мои записки для детей моих, а если можно, и для других».
Эпиграф гласил: «В трудах от юности моей…»
«Давно, еще до получения кафедры, у меня возникла мысль написать историю России; после получения кафедры дело представлялось возможным и необходимым. Пособий не было; Карамзин устарел в глазах всех; надобно было для составления хорошего курса заниматься по источникам…»
«Заниматься по источникам» — это означало: летом, осенью, зимой, весной в семь часов утра слегка скрипела дверь кабинета в доме Соловьевых. По скрипу можно было проверять часы.
До девяти утра дом погружался в тишину.
Ровно в девять опять скрипели двери. Потом хлопали и двери парадного. Сергей Михайлович шел в университет или в архив.
Иногда приходилось ездить в Петербург. Но и там работа с семи часов дома, с девяти — в столичных архивах.
Соловьев был избран ректором университета, деканом, но привычек своих не менял. Не имел права.