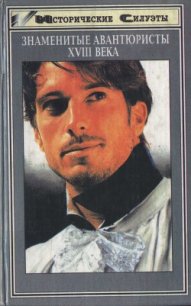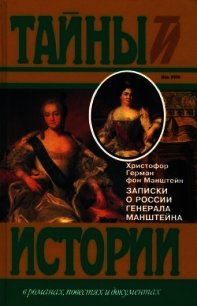Русская пытка. Политический сыск в России XVIII века - Анисимов Евгений Викторович (книги бесплатно полные версии TXT) 📗
Неправомочными признавались лишь те сумасшедшие, чьи речи было невозможно понять, а их бессвязные показания нельзя было занести на бумагу. Буйное поведение считалось свидетельством сумасшествия. Но и таких больных некоторое время держали под арестом, ожидая, когда они немного «придут в ум» и смогут давать показания. Если же буйство подследственного продолжалось и не было симуляцией (а за этим следили), то больного, находившегося «в исступлении ума», отправляли в монастырь «для содержания ко исправлению ума». При этом приписка в резолюции «До сроку» означала, что сумасшедшего посылали в монастырь на какое-то время, до выздоровления, точнее – до прихода в то состояние, которое называлось «Пришел в ум», «Стал быть в настоящем уме». Монастырские власти обязывались тотчас сообщать куда надлежит об улучшении состояния больного. Навязанные монахам сумасшедшие были большой для них обузой, от которой они спешили избавиться. Возвращенного в сыск человека вновь допрашивали и пытали по сказанным им ранее «непристойным словам», игнорируя то обстоятельство, что слова эти были произнесены им как раз «в безумстве».
Словом, показания сумасшедших признавались политическим сыском как имеющие полную юридическую силу и их использовали в «роспросах», на очных ставках и в пытках. Сыск не отказывался и от доносов сумасшедших, видя в них рядовых изветчиков. Как и в делах о «непристойных словах», судьба колодника-сумасшедшего во многом зависела от того, что он говорил, какими именно «непристойными словами» бредил. Если он объявлял себя царем или утверждал, что сожительствовал с императрицей, мылся с ней в бане, то наказание было суровое, если же он просто ругал государя по-матерному, то кара была мягче.
Даже в екатерининские времена, когда медицинская наука сделала заметные успехи в постижении тайн человека и государыня не побоялась привить себе и сыну оспу, «политический бред» сумасшедшего оценивался по-прежнему как государственное преступление. В приговоре 1777 года о заточении в Динамюнде отставного бригадира барона Федора Аша, который объявил, что он – подданный «законного государя» И. И. Шувалова – сына Петра Великого, есть ключевое выражение: «впал по безумству в преступление», поясняющее отношение сыска к делам сумасшедших. Аша тщательно, как вполне здорового человека, допрашивали «для чего он столь дерзостныя и вымышленные слова… писать и вредные намерения иметь отважился?» Тогда же его вопрошали и о сообщниках – без этого сыск не в сыск: «Не имел ли он в сем его развращенном и вредном намерении подобных себе сотоварищей?..»
Позже просидевшего 19 лет в Динамюнде Аша привезли (уже при Павле I) в Петербург, но вскоре стало ясно, что он «в уме не исправился», и поэтому в именном указе от 2 апреля 1797 года сказано, что Аш «по учиненной его дерзости, нарушению присяги и изменническому предприятию… заслуживает смертную казнь», которую заменили пожизненным заточением в суздальский Спасо-Ефимьевский монастырь. При этом, как писал современник, несчастный сумасшедший скорее «был жалок, нежели кому-либо опасен».
Однако власть так не считала. Когда в 1775 году сошедший с ума надворный советник Григорий Рогов вошел с улицы в здание Синода, сел за стол и начал писать манифест от имени «императора Павла Петровича», то нетрудно было предвидеть, как отнесется к этому императрица Екатерина II, которая не хотела уступать престол сыну. Поэтому Рогова схватили и отправили не в монастырь «под начало» монахов, а в Петропавловскую крепость. Его делом занималась сама Екатерина II. Потом Рогова, хотя и признали «в уме помешанным», заключили в Шлиссельбургскую крепость, где и содержали как государственного преступника. В инструкции охране было приказано, с одной стороны, не слушать Рогова, так как «он в уме помешан», с другой стороны, немедленно рапортовать о всех его «непристойных словах» коменданту крепости, а уж тот сообщал о речах сумасшедшего узника самому генерал-прокурору. На всякий случай психически здоровую жену и невинных детей Рогова Екатерина II также сослала в Сибирь.
Следователи сыска не были лишены наблюдательности, неплохо знали человеческую психологию вообще и психологию «простецов», в частности. Порой они умели найти тонкий подход к подследственному. За ним внимательно наблюдали во время допросов, отмечали, как он реагирует на сказанные слова, предъявленные обвинения, как ведет себя перед лицом свидетелей на очной ставке. При допросе в 1732 году заподозренного в сочинении подметного письма монаха Решилова ему дали прочитать это письмо, а потом Феофан Прокопович, ведший допрос вместе с кабинет-министрами и Ушаковым, записал как свидетельство несомненной вины Решилова: «Когда ему при министрах велено письмо пасквильное дать посмотреть, тогда он первее головою стал качать и очки с носа, моргая, скинул, а после, и одной строчки не прочет, начал бранить того, кто оное письмо сочинил».
Вообще, Феофан Прокопович был настоящим русским Торквемадой. Инструкции, составленные им для ведения допросов, являются образцом полицейского таланта: «Пришед к [подсудимому], тотчас нимало немедля допрашивать. Всем вопрошающим наблюдать в глаза и на все лице его, не явится ли на нем каковое изменение, и для того поставить его лицом к окошкам… Как измену, на лице его усмотренную, так и все речи его записывать».
Самыми трудными для следователей были люди образованные, умные. Как уже сказано выше, Николай Новиков оказался «неудобным клиентом», он умело защищался, уходил от расставленных ему ловушек и привычных приемов сыска.
Сложным оказалось и дело самозванки – «дочери Елизаветы Петровны». Князь А. М. Голицын, ведший это дело, прибегал к различным уловкам и нестандартным приемам, чтобы хотя бы понять, кем же на самом деле была эта женщина, так убежденно и много говорившая о своем происхождении от императрицы Елизаветы и Алексея Разумовского, а также о своих полуфантастических приключениях в Европе и Азии. Голицын допрашивал самозванку по-французски, но, пытаясь выяснить ее подлинную национальность, неожиданно перешел на польский язык. Она отвечала по-польски, но было видно, что язык этот ей плохо знаком. Из этого Голицын сделал вывод, что она, очевидно, не полька. Стремясь уличить самозванку (говорившую, что она якобы бежала из России в Персию и хорошо знает персидский и арабский языки), Голицын заставил ее написать несколько слов на этих языках. Эксперты из Академии наук, изучив записку, утверждали, что ее язык им неизвестен.
Проведя много часов в допросах «княжны Таракановой», Голицын пытался изучить ее характер, выяснить, какие конечные цели были у преступницы. Оставленные им описания и характеристика этой авантюристки не лишены глубины и выразительности:
«Сколько по речам и поступкам ее судить можно, свойства она чувствительного, вспыльчивого и высокомерного, разума и понятия острого, имеет много знаний… Я использовал все средства, ссылаясь и на милосердие В. и. в. и на строгость законов… чтобы склонить ее к выяснению истины. Никакие изобличения, никакие доводы не заставили ее одуматься. Увертливая душа самозванки, способная к продолжительной лжи и обману, ни на минуту не слышит голоса совести. Она вращалась в обществе бесстыдных людей и поэтому ни наказания, ни честь, ни стыд не останавливают ее от выполнения того, что связано с ее личной выгодой. Природная быстрота ума, ее практичность в некоторых делах, поступки, резко выделяющие ее среди других, свелись к тому, что она легко может возбудить к себе доверие и извлечь выгоду из добродушия своих знакомых».
Итак, уже к началу XVIII века в политическом сыске существовала довольно разработанная «технология» ведения дел: «роспрос», который предполагал допросы изветчика, ответчика и свидетелей, а также их очные ставки. Следователи уже на стадии «роспроса» стремились добиться от изветчика точного, «доведенного» с помощью свидетелей извета. От ответчика требовали быстрого признания вины, раскаяния, подробного рассказа о целях, средствах задуманного им или совершенного государственного преступления, а также выдачи сообщников.