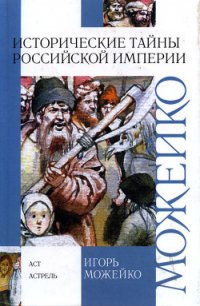Екатерина Великая. «Золотой век» Российской Империи - Чайковская Ольга Георгиевна (читать книги онлайн без регистрации .TXT) 📗
Но все же какая-то непрестанная тревога пронизывала его жизнь, мысли о времени, о вечности приходили в голову – и о смерти. Однажды они с Порошиным говорили о беспредельности времени, Павел «изволил сказывать, что прежде всего плакивал, воображая себе такое времени пространство, и что наконец умереть должно». Вот о чем думал он под вой ветра, этот печальный наследник престола, король Матиуш Первый – вспомнить корчаковского Матиуша тут уместно: представьте, маленький Павел тоже мечтал о том, чтобы создать государство детей! Однажды, когда он обувался, а Семен Андреевич говорил с ним о республике Платона и «Утопии» Мора, потом, «во время чесания волос» мальчик в ответ рассказал своему учителю, что мечтает создать собственную республику, которая «должна состоять из малолетних», – вечная мечта одинокого ребенка в жестком мире взрослых.
Семен Андреевич Порошин следил за развитием Павла с тревогой, нежностью и вниманием старшего брата. Он тоже отлично помнил, что воспитывает мальчика, которому предстоит стать самодержавным правителем огромной Российской империи, но куда глубже Панина сознавал свою ответственность, не боясь впасть в преувеличение, можно сказать – ответственность перед народом: чувство народа было очень сильно в Семене Андреевиче, понятие отечества он переживал глубоко и горячо. Его ранит то легкомысленное отношение ко всему русскому, национальному, которое нередко чувствуется в застольных беседах вельмож. Ужасно страдал Порошин, когда кто-то, говоря о Петре I, «прошел молчанием все великие качества сего монарха, о том только твердить рассудил за благо», что Петр много пил. Порошин был оскорблен не одним тем, что о прадеде плохо говорили при правнуке, но и вообще посягательством на великий образ.
Однако защитить своего кумира Порошин не смог, единственный довод, который оказался в его распоряжении: если бы Петра I не было, его нужно было бы выдумать Павлу для подражания, – наивный патриотизм, готовый пойти на ложь, лишь бы поддержать идею национальной гордости. Не будем, однако, забывать, что Порошину немногим за двадцать. Куда важнее то, что молодой офицер приучал великого князя к русской культуре.
Именно Порошин, математик, рассказал наследнику о Несторе, о разных эпизодах русской истории; о том, как живут русские крестьяне, каковы их обычаи, как они «увеселяются»; никогда он не упускает случая подчеркнуть преимущества русских мастеров. Здесь у Порошина четкая внутренняя установка: он полагает, что ребенку до поры до времени не следует слушать о недостатках своего народа, о них он сам со временем узнает, нужно сперва вложить в душу ребенка «любовь и горячность к народу», тогда и слабости этого народа будут по-другому глядеться – мысль, выдающая, конечно, настоящего педагога.
Сознательно и планомерно воспитывает Семен Андреевич в наследнике престола чувство ответственности перед страной, не устает твердить, что слава государя состоит в том, чтобы «быть в беспрерывных трудах и подвигах в пользе о прославлении любезного отечества». Очевидно, речи Порошина были увлекательными, потому что Павел слушал с большим вниманием и говорил: «Подлинно, братец, вить это правда».
Между наследником и его учителем математики завязываются удивительные отношения – целый роман. Конечно, Павел уже тогда был вспыльчив (и тогда грубил), верил наветам, непрестанным, кстати, ввиду того, что его любовь к Порошину вызывала зависть его маленького «двора». Но мальчик добр. Узнав, что Порошин беден и «со своими доходами ест на олове», горячо его утешает: «Не тужи, голубчик, будешь и на серебре есть» (понимай: когда наследник станет царем).
Вот Павел упрашивает Панина, чтобы для сына кормилицы, которому пять лет, «сделать какое-либо счастье, определить его во флот или какое другое место»; или задумал добыть чин асессора для своего учителя рисования Грекова. Прямо к матери мальчик обратиться не смеет, а потому упрашивает сделать это Строганова. И вот вечером у Екатерины Строганов «по положенному принялся кашлять и вздыхать», императрица спросила, что значат эти вздохи, а Строганов ответил, что у его высочества уже давно к ней просьба. Екатерина засмеялась и спросила, что это за важная просьба, Павел принужден был объяснить, и Греков стал асессором. Эта сцена на редкость точно говорит об атмосфере, которую создала вокруг себя Екатерина, – все очень мягко, очень мило, просьба выполнена в ту же минуту и с улыбкой – только вот сын к матери сам почему-то обратиться не смеет.
Зато потом в покоях Павла устроили великий праздник в честь нового асессора, было торжественно, шумно, весело, жгли фейерверк, знатно надымили, и пахло порохом.
Все теснее становится связь между учителем и учеником. Только Порошину мальчик может признаться, что в покоях матери ему «несносно». Только Порошин видит, как великий князь, которому предстоит трудный экзамен по богословию (торжественный, в присутствии матери!), говорит, «из угла в угол попрыгиваючи»: «Ой, трушу, трушу». Именно в комнату к Порошину прибегает он утром – поцеловаться, пошептаться, поведать «свои таинства».
У них было общее дело – математика, которую преподавал Порошин. Однажды Павел спросил его, «кто самый большой математик», и Порошин назвал Эйлера. «А я знаю еще кого-то, отгадай, – сказал Павел и сам ответил: – Есть некто Семен Андреевич Порошин да ученик его Павел Романов, разве это не математики?»
Откровенность за откровенность: Порошин читал Павлу свой дневник, и «где приятные места ему приходили, тут изволил попрыгивать и петь весело, а где не по нас, тут мы нахмуривались и пели голосом заунывным».
Случалось им ссориться, и серьезно. Вот Павел, который, как видно, наслушался чьих-то злых наветов, дуется и не разговаривает. Не разговаривает и Порошин.
Павла хватает ненадолго, на следующий день, пишет Порошин, он «старался заигрывать со мной и изволил приласкиваться». Но Порошин, обидевшись той легкости, с какой его друг поверил наветам, «не входил ни в какие шутки».
Павел стал томиться, все время «забегать изволил», чтобы примириться, – Порошин оставался тверд. Дела шли своим чередом, занятия, уроки – а они все еще не разговаривали друг с другом. Наконец посреди каких-то занятий Павел не выдержал:
– Долго ли нам так жить? – спросил он. – Пора помириться.
На что Порошин сухо ответил, что обида его велика.
А наутро мальчик сам прибежал в его комнату, бросился ему на шею и, целуя, говорил: «Прости меня, голубчик, я перед тобой виноват; вперед уж никогда сердиться не будем, вот тебе моя рука». «Я расцеловал руку Его Высочества, – пишет Порошин, – и по некоторых разъяснений постановивши твердый мир, пошел за ним чай пить».
Порошин недаром держал себя так твердо в этой истории – злоба придворных пылала вокруг и грозила им бедою. Зависть была столь велика, что Семен Андреевич просил своего ученика не проявлять своей к нему любви так явно.
Мы сейчас в последний раз увидим их вдвоем. По Невскому мчат санки, я представляю их по описанию одного из мемуаристов: «Это маленькие санки на двоих, третий на запятках. И они так уютны, что кажутся очень малы, и столь легки, впору для одного бегуна. По светло-зеленой краске покрыты лаком и по приличным местам выложены бронзой. Выбивка, подушки и на медведях покрывало из лучшего разноцветного рытого трипа». Санки цесаревича, конечно, убраны еще богаче – вместо трипа, надо думать, бархат, вместо медведя – соболя или черно-бурые лисы, – сидит в них счастливый мальчик, вырвавшийся на свободу, Порошин стоит на ЗАПЯТКАХ.
Доехали до СЛОНОВОГО двора, где еще недавно жил подаренный когда-то Анне Иоанновне слон. Здесь Павел увидел мужиков, пивших теплое сусло, ему захотелось попробовать, остановились – мальчик пил, а собравшийся народ, так пишет Порошин, смотрел на него «с великим удовольствием». И снова полетели санки по снежным улицам Санкт-Петербурга. Великий князь «был очень весел. Оборачиваясь ко мне, изволил со мною разговаривать и хвалил сусло. Его Высочество сим катанием несказанно был доволен. На улице из саней ко мне оборачивался, хотел меня поцеловать в своей радости. Но я сказал, чтобы изволил сидеть починнее, что мы уже домой приехавши поцелуемся».