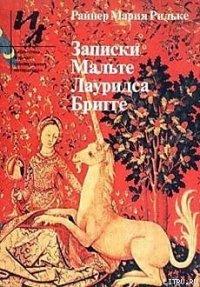Искушение чудом («Русский принц», его прототипы и двойники-самозванцы) - Мыльников Александр Сергеевич (чтение книг TXT) 📗
Вывод интересный, во многом справедливый, но не бесспорный и оставляющий без ответа или недостаточно обосновывающий ряд существенных вопросов. Так, автор исходит из предположения, что самозванный «русский принц» был либо реальным лицом, либо, скорее всего, порождением народной фантазии. Но при этом он отрицает наличие в чешской народной среде славянского сознания (не поясняя, какой смысл он вкладывает в этот термин). Но почему в таком случае народная фантазия назвала «изгнанного принца» русским, а, скажем, не французом, голландцем, немцем или представителем еще какой-либо национальности? И чьим, собственно, «сыном» могли его воспринимать?
Думается, что дихотомия — «либо реальное лицо, либо фантазия» — едва ли вообще применима при анализе такого круга материалов. Ведь история самозванчества свидетельствует, что за самыми неожиданными, порой фантастическими версиями, порожденными народным мировоззрением, всегда в конечном счете стоят в преобразованном виде какие-то исторические реалии и действительно существовавшие лица — либо как индивидуальности, либо как обобщенные персонажи. И за информацией о появлении «русского принца» мог скрываться конкретный или собирательный образ повстанческого вожака, апеллировавшего не только к социальным, но и к национальным настроениям крестьян, во главе которых он встал.
Жизненность такого образа основывалась на традициях чешской народной литературы и фольклора. О скором явлении героя-избавителя, например, трактовали восходившие еще к XV в. так называемые «королевские повести» и «пророчества». В невыносимо трудной для чешского народа обстановке XVII в., связанной с утратой государственной независимости, войнами и разорением страны, проведением Габсбургами политики контрреформации и жестокого преследования «еретиков», эти жанры оживают вновь. Популярность, в частности, приобретают «пророчества», создававшиеся и распространявшиеся противниками католицизма. В XVIII в. «пророчества» и «королевские повести» получили дальнейшее распространение не только в протестантской и сектантской, но и в более широкой, формально католической, чешской сельской и городской народной среде. «Королевская повесть, — отмечал известный чехословацкий литературовед Й. Грабак, — иногда соединялась с пророчеством о короле Марокане, которое в какой-то форме циркулировало в народе уже в эпоху крестьянского восстания 1775 г. и накануне вторжения прусского короля Фридриха в 1778 г.» (176, с. 482).
Поскольку же «своего» короля в Чешских землях не было (после 1620 г. им считался правящий австрийский монарх), в народе рождались разнообразные представления о личности такого «избавителя». В одних случаях фигурировали вымышленные, сказочные персонажи. Так, в Моравии была популярна повесть о короле Ячменьке. В других случаях на роль «избавителя» выдвигались те или иные царственные особы. И в той же мере, в какой стала в ходе восстания 1775 г. мифологизация личности Иосифа II и появление Лжеиосифов, закономерным явилось обращение чешского народного сознания к русской теме.
Почва для этого имелась: чешско-русские контакты, корнями своими уходившие в глубины истории, именно в XVIII в. получили дальнейшее развитие. По разным причинам в Чешских землях появлялись люди из России — переводчики, присланные в Прагу по повелению Петра I: путешественники, следовавшие по своим делам; армейские части, неоднократно останавливавшиеся здесь в качестве союзников Австрии. В 1749–1750 гг. в Оломоуце располагался русский военный госпиталь, в эти края в годы Семилетней войны совершали побеги из прусского плена русские солдаты и офицеры [187, с. 30–38]. И как ни ограничены еще были подобные случаи, они способствовали налаживанию личных, народных чешско-русских связей. Не случайно, автор одной из местных «хроник» тех лет с удовлетворением отмечал, что благодаря языковой близости чехи и русские могли объясняться друг с другом непосредственно, без переводчиков. Все это не проходило для чешского народного сознания бесследно. Показательно, что в упомянутом Й. Грабаком пророчестве о короле Марокане уже в бурном 1775 г. предсказывался скорый приход некоего избавителя именно с Востока. Потому и принц — русский.
Легенда о нем, возникшая на чешской почве, одновременно выступает как преображенный финал народной социально-утопической легенды, связанной с мифологизированным Петром III и теми, кто под этим именем выступал (прежде всего — с Пугачевым). Ибо народное сознание придумало ему, прообразу, легенды, и им, ее носителям, свою судьбу.
Но почему народное самозванчество с завидной устойчивостью и в разных странах избрало в качестве своего символа именно Петра III, которого давно уже, за немногими исключениями, принято изображать ограниченным, ничтожным, почти что спившимся человеком? Созданный несколькими поколениями мемуаристов, историков и писателей образ превратился в расхожий стереотип, не нуждающийся в доказательствах и не поддающийся пересмотру. Вопрос снят, проблема не существует — такой подход способен объединить весьма разных авторов. Например, ленинградского историка Е. В. Анисимова и московского литературного критика М. П. Лобанова. Первый из них, выпустивший интересную монографию о политической борьбе в России середины XVIII в., признавался, что хотел было преодолеть традицию, выявить в оценке Петра Федоровича «скрытый план», но «все усилия оказались тщетными — никакой „загадки" личности и жизни Петра Федоровича не существует. Упрямый и недалекий, он стремился во всем противопоставить себя и свой двор „большому двору" и его людям…» (35, с. 214). Примерно в том же духе, но еще решительнее рассуждает и московский литературный критик М. Лобанов: «Имя этого императора… никогда не вызывало среди историков разноречий в его исторической характеристике. Враждебность к России, ко всему русскому. Холуй Пруссии, Фридриха II, замыслил заменить в России православие лютеранством. Никто из историков, начиная от С. М. Соловьева, вплоть до современных, не брался „реабилитировать" Петра III; слишком все очевидно» [93, с. 264].
Нельзя не признать, что определенные основания для подобных суждений имеются. Именно таким выведен Петр III в «Записках» Екатерины II, таким рисовали его многие очевидцы. «Он не был зол, но ограниченность его ума, воспитание и естественные склонности выработали из него хорошего прусского капрала, а не государя великой империи», — писала Е. Р. Дашкова [59, с. 47], одна из образованнейших женщин своего времени, директор Петербургской Академии наук и президент Российской Академии, собеседница Дени Дидро [58, с. 59]. А вот мнение известного русского агронома А. Т. Болотова, весной 1762 г. в качестве скромного армейского офицера состоявшего при императоре: он, Петр III, «возрос с нарочито уже испорченным нравом» [44, с. 164].
Примерно ту же тональность можно найти и в ряде документов того времени — донесениях зарубежных дипломатов, переписке и воспоминаниях отдельных современников. Но действительно ли «все очевидно» и попытки выявить иные свидетельства, иные мнения тщетны? И неужели никто из историков не брался «реабилитировать» Петра III? Если первое представляется крайне спорным, то второе попросту обнаруживает незнание историографии темы. Дело, конечно, не в «реабилитации». Применение этого слова здесь явно неуместно. Нам нет нужды ни «обвинять», ни «защищать» Петра III. Но одно из основополагающих требований научного подхода к любому изучаемому явлению — историзм. И в данном случае нужен спокойный, объективный взгляд на одну из интересных и все еще до конца не прочитанных страниц русской истории XVIII в.
Допустимо ли игнорировать положительную оценку Петра Федоровича — и в бытность его наследником престола, и в бытность императором — со стороны таких, знавших его представителей отечественной культуры, как В. Н. Татищев, М. В. Ломоносов, Я. Я. Штелин? Забыть, что ликвидацию Петром III репрессивной Тайной канцелярии Г. Р. Державин позднее назовет в ряду «монументов милосердия»? [61, с. 266]. Напомню, что вольнодумец Ф. В. Кречетов, в 1793 г. пожизненно заточенный в Петропавловку, намеревался «объяснить великость дел Петра Федоровича», а поэт А. Ф. Воейков в начале 1801 г. ставил имя Петра III «подле имен величайших законодавцев» [96, с. 30]. Правомерно ли, наконец, забывать, что отнюдь не легковесный интерес к «несчастному Петру III» [133, т. 11, с. 289] проявлял и А. С. Пушкин (согласно именному указателю к большому академическому изданию его «Полного собрания сочинений», имя Петра III упоминалось на 111 пушкинских страницах). Несколько любопытных воспоминаний о нем А. С. Пушкин записал в 1833–1835 гг. со слов престарелой кавалерственной дамы Н. К. Загряжской, дочери гетмана и президента Академии наук К. Разумовского — свидетельницы минувшей эпохи.