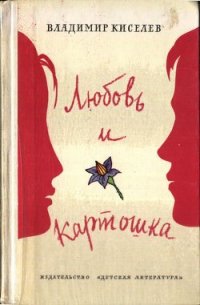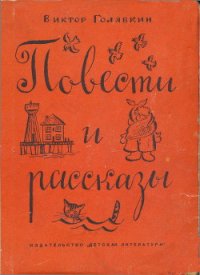Повести - Рубинштейн Лев Владимирович (читать книги полностью .txt) 📗
Бурцов восемнадцати лет от роду вступил добровольцем в армию и сражался с наполеоновскими войсками в России и Германии. Он был отменным храбрецом. В двадцать два года он был уже майором и имел несколько боевых орденов. Лицейские часами слушали его рассказы о схватках, стычках, ночных нападениях, лазутчиках, набегах, патрулях и восстаниях.
— Да, мы без дела не сидели, — говорил Бурцов, приглаживая густые, каштанового цвета бакенбарды. — Как сейчас помню, под Гамбургом…
И он рассказывал, как немецкие юноши, поклявшись на кинжалах, нападали из-за угла на наполеоновских генералов и «разили их клинком прямо в грудь».
— Этот самый кинжал трижды был обагрён кровью неприятелей! А хозяин его был расстрелян у церковной стены!
— Как же достался вам этот кинжал, Иван Григорьевич?
— О, да это история! Мы в тот же день отбили его у французских кавалеристов, и явился я к друзьям расстрелянного юноши, держа в руках сей знак доблести. А они просили меня принять священный кинжал в дар и намять. И клянусь, друзья мои, слёзы потекли у меня из глаз. Нет, мы не варвары! Мы уважаем храбрость и верность отчизне!
Слова у офицеров были не те, что в Лицее у Энгельгардта. Доблесть, храбрость, честь, верность! Смерть тирану! Гибель деспотам! Отечество и… «она»!
Слово «она» было секретное. Это слово означало «вольность». Произносить его не полагалось. Поднимали тост за…
Тут наступало молчание. Все обменивались взглядами и осушали бокалы с вином.
И снова говорили о войне.
Жанно услышал про 1812 год совсем не то, что писали в журналах. Офицеры открыто говорили о Барклае, несправедливо обиженном, и о «некотором лице», которое во время войны трусливо отсиживалось в своём дворце…
Жанно не спрашивал, кто это «лицо». Он знал, что это царь.
В доме Бурцова Жанно впервые услышал стихи запрещённого поэта Радищева:
Стихи эти дали прочесть Саше Пушкину, и он прочитал взволнованным голосом. Офицеры сидели в расстёгнутых мундирах и молча дымили длиннейшими трубками — чубуками.
— У нас тоже вот какие были! — воскликнул Жанно.
Офицеры переглянулись и усмехнулись.
— Всякие у нас были, — уклончиво сказал Бурцов и забрал у Пушкина листок. — Славно написано, — прибавил он, — но вы, юноши, о сем молчите, если молчать умеете…
Пушкин и Вольховский хотели было поклясться, но Пущин их остановил.
— Хватит клятв, — заявил он, — точно мы болтуны!
Бурцов посмотрел на него.
— Здраво и умно, — сказал он, — вы не болтуны.
Вот где оно, настоящее «дело общее»! Это не шарады, не стихотворные состязания, не лицейские кружки, не школьная болтовня! Это высокая цель — таинственная, взрослая и полная новых обязанностей.
Впервые Жанно стал уважать самого себя. Так! Он будет участником общего дела, как эти прекрасные офицеры, которых крепко спаяла война! Вот его, Ивана Пущина, предназначение! Вот жизнь!
РУКУ В РУКУ!

Весна 1817 года была ранняя и длительная.
В первых числах мая на липах забрезжила молодая, светлая зелень. На Царское Село словно опустилось зелёное облако. Настоящие облака двигались по небу лениво. Их было мало, и они не только не мешали синеве неба, но ещё её подчёркивали.
Белые статуи в свежей зелени выглядели как будто вымытыми. И лебеди на голубеющей воде казались мраморными. Они плыли, не сгибая шеи, словно прислушивались к звукам, которых люди не слышат.
До окончания Лицея осталось несколько недель.
Жанно снова ходил один по парку с учебником под мышкой. В лицейском садике Энгельгардт с воспитанниками старшего курса только что заложили памятник — вернее, плиту, посвященную «местному духу». Егор Антонович был поклонником Царского Села. Он считал, что здесь необыкновенно здоровый воздух, и решил в честь этого поставить плиту «духу», который, как верили древние римляне, живёт в каждом месте и охраняет его от зла. Этот же царскосельский «дух» должен быть добрым гением Лицея. По сему случаю Егор Антонович произнёс небольшую речь и даже утёр слезу платочком.
Император любовался прогулками лицеистов из окна дворца и однажды ласково сказал Энгельгардту:
— Как они милы в мундирах!
Энгельгардт почтительно поклонился.
Для Егора Антоновича всё было в порядке. Но для Жанно жизнь только начиналась и всё было в беспорядке.
Как во сне, вспоминал он дедушкину карету, представление министру, первые дни в Лицее, тоску по дому, потом весёлую компанию первокурсников, ссоры, примирения, двенадцатый год, победу над Пилецким…
«Какие мы тогда несмышлёные были — думал Жанно, — совсем ещё ребятишки!»
Тоска по дому прошла. Жанно привык к лицейской «республике», хотя в ней были разные люди.
Смешной, но чистый душой Вильгельм… Медлительный, умный Дельвиг… Тихий, добрый Матюшкин… Обезьяна-Яковлев, товарищеская душа… И Пушкин, блестящий, горячий, порывистый, то весёлый, то грустный, споров с ним было много, но ссоры ни одной…
Снова в Софии поёт воинская труба и напоминает о тех офицерах, которые мыслят одинаково с ним, Пущиным. И ещё напоминает труба о долге перед отечеством. И ещё — о тайном обществе, о союзе людей благородных и честных.
Вдохновенный профессор Куницын призывал когда-то лицеистов «не отвергать гласа народного». Нашлись люди, которые не отвергают гласа народа — и где? Рядом с царским дворцом! И никто о них не знает!
Сказать Саше?
Саша Пушкин сидел на берегу пруда, опершись локтем о чугунную спинку скамьи, уткнув кулак в щёку. Жанно очень хорошо знал, что в такие минуты с Сашей лучше не разговаривать. Пушкин бесился.
Лебеди один за другим выплывали из ракитника. Над прудом неслись их гортанные весенние крики. Пушкин расстегнул воротник и закинул голову, словно ему душно было. Нет, сейчас говорить с ним не надо. И никому ничего не надо говорить!
Жанно ушёл в глубину Екатерининского парка. Здесь, за причудливым мостиком «Большого Каприза», стояла будочка, в которой генерал Захаржевский держал ручного медвежонка.
Издали слышно было, как бряцает цепь. Медвежонок бегал из стороны в сторону, грыз цепь и ворчал — тоже бесился.
Жанно посмотрел на пленного зверя, покачал головой и прошёл дальше. Майский воздух и в самом деле был необыкновенно вкусный. Он как будто пропитывал насквозь всё тело. Жанно уселся на скамью, развернул учебник. И тут послышался заливистый лай маленькой собачки.
Жанно знал — это лает царский Шарло. Лай был тревожный, злобный, неистовый. Мимо Жанно пробежали двое караульных солдат со штыками наперевес. За ними бежал адъютант с обнажённой шпагой.
Жанно повернулся в другую сторону и с изумлением увидел Паньку.
— Ваше благородие, — отчаянно прошептал Панька, — скорей уходите! Медвежонок с цепи сорвался!
Панька исчез, словно сквозь землю провалился.
Жанно думал было уйти, сделал шаг по тропинке и вдруг лицом к лицу встретился с императором.
Александр I в одной руке держал треуголку, а другой натягивал поводок собачки. Лицо у него было в красных пятнах, лоб в поту.
Увидев Жанно, он вздрогнул и яростно округлил свои выпуклые голубые глаза. Несколько секунд он смотрел на Пущина взглядом лютого зверя, как будто хотел вцепиться ему в горло. И вдруг стремительно бросился в сторону. Жанно застыл на месте.
Царь с треском пробился сквозь кусты и пропал. За ним выпрыгнули на тропинку два адъютанта.
— Где его величество? — крикнул один из них.
Жанно мотнул головой в ту сторону, куда убежал царь.