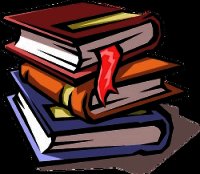История германского фашизма - Гейден Конрад (электронная книга .txt) 📗
Не будучи в состоянии справиться с этой тройкой, Гитлер возвращается в зал и произносит там краткую мастерскую речь. По выражению одного из свидетелей, ему удалось изменить настроение собрания, бывшее первоначально враждебным, словно «вывернуть перчатку». Он объявил президента республики низложенным, объявил низложенными имперское и баварское правительства, предложил Кара в качестве наместника Баварии, Пенера в качестве министра-президента и затем заявил:
«Я предлагаю: до конца расправы с преступниками, губящими ныне Германию, руководство политикой временного национального правительства беру на себя я. Его высокопревосходительство генерал Людендорф принимает на себя руководство национальной германской армией. Генерал фон Лоссов — имперский министр рейхсвера, полковник фон Зейсер — имперский министр полиции. Задачей временного национального германского правительства явится поход против мерзкого Вавилона — Берлина. Я спрашиваю вас — там, в другой комнате, сидят три человека: Кар, Лоссов и Зейсер. Им очень трудно было прийти к этому решению, — согласны вы с этим решением германского вопроса? Мы желаем построить союзное государство федеративного характера, в котором Бавария получит то, что ей полагается. Завтрашний день либо застанет в Германии национальное правительство либо не застанет нас в живых».
Это была настоящая гитлеровская речь, произнесенная с жаром и порывом и вместе с тем не обошедшаяся без неприятного трюка. Он представил слушателям дело так, будто тройка уже согласилась с ним, и собрание ответило на это ликованием. Теперь он мог снова пойти к тройке и сообщить подавленному Кару, что публика с энтузиазмом понесет его на руках.
В этот момент вошел в комнату также Людендорф с Шейбнером-Рихтером. Не глядя по сторонам, ни о чем не спрашивая, он сразу заговорил: он также не ожидал случившегося, как и другие, но речь идет о великом национальном деле, он может дать всем троим только совет не отказываться от участия, он протягивает им руку и предлагает ударить по рукам. Все это стоило Людендорфу некоторого усилия над собой: он был рассержен тем, что Гитлер самовольно распределил обязанности, причем ему, Людендорфу, досталось только командование армией, не больше. В продолжение всего вечера он игнорировал Гитлера, не сказав с ним и пяти слов. Разгоряченный и самоуверенный Гитлер вначале ничего не заметил. «Возврата нет, — воскликнул он, — все это уже стало историческим событием».
Лоссов первый превозмог себя; в конце концов, не мог же он оставить Людендорфа стоящим с протянутой рукой. Он пожал руку и пробормотал сквозь зубы: «Ладно». Его примеру последовал Зейсер. Кар все еще боролся с собой; ведь он монархист, он не может принять участие в такого рода восстании, он чувствует себя представителем короля.
Гитлер со сложенными молитвенно руками упрашивал Кара: «Вот именно, ваше высокопревосходительство, необходимо загладить великую несправедливость по отношению к монархии, павшей в 1918 г. жертвой позорного ноябрьского преступления. С разрешения вашего высокопревосходительства я немедленно после собрания отправлюсь к его величеству (принцу Рупрехту, находившемуся тогда в Берхтесгадене) и сообщу ему, что германское восстание загладило несправедливость, причиненную почившему в бозе родителю его величества». Эта изумительная тирада дословно засвидетельствована Непером, который тем временем тоже вошел в комнату. Кар нашел теперь выход и холодно произнес: «Хорошо, я вижу, в конце концов, мы все здесь монархисты. Я принимаю на себя наместничество только как наместник короля».
С именем своего короля на устах баварский диктатор вышел в зал. Публика лихорадочно волновалась. Диктатор вышел на трибуну с каменным лицом. Людендорф был бледен как смерть; по выражению одного из очевидцев, на нем лежала печать смерти. Только Гитлер был весел — по выражению того же свидетеля, весел, как дитя. Он еще раз обратился к публике, повторил уже сообщенное раньше распределение функций и прибавил:
«Теперь я исполню то, в чем поклялся пять лет назад, лежа полуослепший в военном госпитале: я не успокоюсь до тех пор, пока не будут повержены в прах ноябрьские преступники, пока на развалинах нынешней несчастной Германии не восстанет великая и мощная Германия, свободная и счастливая. Аминь!»
Это веселое дитя не знало в тот момент никаких сомнений. Голос инстинкта его не предостерегал. Счастливая Германия и баста, аминь! Он не заметил двусмысленного оттенка в словах Кара: «В минуту величайшей опасности для родины и отечества я принимаю на себя руководство судьбами Баварии в качестве наместника монархии, разбитой дерзновенной рукой пять лет назад. Я делаю это с тяжелым сердцем, надеюсь, к благу нашей баварской родины и нашего великого германского отечества…»
С тяжелым сердцем диктатор пошел на участие в этом деле. Но Гитлеру волнение Кара было в этот момент столь же безразлично, как и гнев Людендорфа. Последний мрачно произнес: «Преисполненный величием момента и застигнутый врасплох, я в силу собственного права отдаю себя в распоряжение германского национального правительства». Когда впоследствии прокурор спросил его, что означают слова «в силу собственного права», Людендорф ответил: «Собрание могло подумать, что я повинуюсь Гитлеру; я хотел этим сказать, что поступаю так не по приказу Гитлера, а самостоятельно».
Быть может, если бы удалось вырвать руководство путчем из рук Гитлера, Кар попытался бы продолжать его самостоятельно и придать ему некоторое лицо — кто знает! Когда генеральный государственный комиссар через полчаса оставил помещение, в толпе к нему подошел и заговорил один из окружных начальников из окружения министра-президента фон Книллинга. Кар шепнул ему: «Коллега, я чрезвычайно огорчен. Как вы сами видели, меня заставили сказать «да». Нельзя идти на подобные вещи!» В этих трех фразах сказался окружной начальник Верхней Баварии, с разрешения которого Гитлер собирался делать революцию.
Гитлер как-никак все же догадался арестовать всех баварских министров, оказавшихся в помещении, во главе с министром-президентом фон Книллингом. Среди задержанных был также граф Соден, начальник канцелярии принца Рупрехта. Замечательный улов! Ведь Гитлер собирался отомстить за почившего в бозе родителя принца! Очевидно, Гитлер хотел отомстить за то, что в свое время Соден не допустил его к принцу. «Однако хорошие же вы монархисты, нечего сказать!» — воскликнул разгневанный граф при своем аресте.
Вскоре после сцены единения в зале пришло известие о стычке между отрядом союза «Оберланд» и солдатами рейхсвера, пытавшимися его обезоружить. Оказалось, Гитлер слишком поспешил с заявлением, что казармы в руках «Боевого союза». Под видом братания штурмовики сделали несколько попыток занять казармы, но эти попытки не увенчались успехом. Слишком велика была разница между скоропалительностью Гитлера и Шейбнера-Рихтера, с одной стороны, и военными приготовлениями Крибеля — с другой.
Гитлер поехал в казармы улаживать конфликт; вероятно, он думал, что по своем возвращении застанет Людендорфа и Лоссова за обсуждением плана похода на Берлин, т. е. застанет, так сказать, военный совет в полном разгаре. Но Людендорф разрешил трем свежеиспеченным членам правительства разойтись по домам. Когда Шейбнер-Рихтер позволил себе скромное возражение, генерал прикрикнул на него: никто не смеет сомневаться в честном слове германского офицера.
Рассказывать подробно о том, что побудило Кара и Лоссова приступить к подавлению путча, не входит в нашу задачу. Упомянем лишь, что версия о вмешательстве принца Рупрехта и кардинала фон Фаульгабера является вымыслом. Если в эту ночь что-либо поддержало триумвиров в их далеко не твердой решимости оказать сопротивление, то это в первую очередь была позиция мюнхенских генералов, оставшихся в стороне от событий. Комендант города, генерал-лейтенант фон Даннер, в разговоре с третьими лицами обругал Лоссова «бабой»; когда Лоссов вернулся, он резко спросил его: «Надеюсь, все это было только блефом?» Теперь сказалось все раздражение офицерства против партизанщины; в сцене, разыгравшейся в пивной Бюргерброй, генералы видели позор для армии. После истории с револьвером Гитлер, по традиционным понятиям об офицерской чести, должен был быть зарублен на месте. Этого не учел бывший ефрейтор.